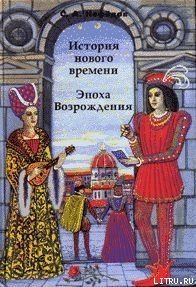Всеобщая история искусств. Искусство эпохи Возрождения и Нового времени. Том 2 - Алпатов Михаил Владимирович
Общественные здания ампира в Париже, как театр Одеон Шальгрена и де Вальи, биржа Броньяра, образуют подобие периптеров. Церковь Мадлен Виньона представляет собой подражание римскому храму. С первого взгляда можно подумать, что европейская архитектура лишь теперь, после четырехсотлетних исканий, вплотную приблизилась к древней архитектуре. Но археологическая осведомленность мастеров не сделала их понимания древности проникновенным. Поставленные на улицах современного города, мало связанные с ними, эти периптеры выглядят как мертвые музейные предметы. Потребность в больших помещениях заставляла отступать от классических типов, увеличивать массив зданий. Наружный вид их неуклюж, а интерьеры мрачны, темны и неудобны.
Ампир получил распространение по всей Европе. В сложении его принимали участие мастера разных национальностей. Представителями классицизма в скульптуре начала XIX века были блестящий, но холодный итальянский мастер Канова, более мягкий, порой задушевный датчанин Торвальдсен, поселившийся в Риме, наконец, немецкий мастер Шадов, у которого сквозь строго классические формы проглядывают немецкие вкусы.
Самым значительным представителем архитектурного классицизма в Германии был Шинкель (1781–1841). Его гауптвахта в Берлине (206) отмечена печатью спартанской суровости, силы, дисциплины, не выродившейся еще в бессмысленную муштру. Портик с дорическими колоннами примыкает к самому зданию. Кубичность массива разбивают два выступа по бокам и несколько подавляют его. В этой тяжеловесности сказались отголоски архитектуры Леду (ср. 204), впрочем, смягченные влиянием античных образцов. Серый цвет берлинских зданий усиливает их мрачную выразительность.
В эпоху ампира строят много ансамблей: в этом была живая потребность. Но каждое отдельное здание наделялось такой законченностью, массивностью, что они либо высятся среди площади, либо окружают ее со всех сторон, но не связаны с пространством улиц и площадей, как это было в XVIII веке. Как раз в области архитектурного ансамбля особенно велики были заслуги русских мастеров начала ХIХ века. Таких величественных зданий, как Адмиралтейство Захарова, таких блистательных ансамблей, как Дворцовая площадь в Ленинграде Росси, на Западе в те годы не создавалось. В русских усадебных домах, исполненных большой интимной теплоты, сквозь ампирные формы проглядывает наследие Палладио, забытое в те годы на Западе.
В эпоху ампира в соответствии с изменением архитектурного стиля подвергается коренной перестройке и прикладное искусство. Убранство интерьеров становится предметом особенного внимания. В распоряжении художников были многочисленные ремесленники, которые еще хранили технические навыки XVIII века. Но, несмотря на это, понимание художественного единства интерьера постепенно утрачивается: покои Наполеона в Мальмезоне, Фонтенбло или Большом Трианоне— это холодные, необжитые залы с выставленными напоказ драгоценными предметами, массивными креслами, тронами под тяжелыми балдахинами, похожими на троны постелями. Хотя на прикладное искусство этого времени оздоровляюще подействовало стремление к строгой правильности форм, но геометризм постепенно принимал отвлеченный характер, и назначение вещей слабо выражалось в их внешней форме.
Комод эпохи ампира (203) отличается строжайшей геометрической правильностью. Сама по себе форма его красива и благородна своей простотой. Выполнение из полированного красного дерева позволяет ясно выявить плоскости. Светлая накладная бронза контрастно противопоставляется темному фону. Но, будучи слабо расчленен, комод лишается характерности и выразительности. В отличие от мебели XVIII века (ср. 195) мебель ампира более тяжеловесна и даже неуклюжа. После походов Наполеона в Египет в подражание древнеегипетскому стилю плоскость подчеркивается особенно неукоснительно; из Египта заимствуются и любимые эмблемы, вроде крылатых грифонов и львов. Но на всем этом лежит отпечаток подражательности: крылья сфинкса нередко несоразмерно велики для животного, во многих заимствованных мотивах больше археологической эрудиции, чем понимания исторического стиля. Любимым орнаментальным мотивом в мебели ампира становятся доспехи, трофеи, пучки стрел, римские орлы с венками (202 ср. I, 116). В Англии мебель «стиля Нельсон» украшалась якорями. По поводу этого рода стилизации Гоголь справедливо писал о склонности новой архитектуры «все превращать в игрушки, делать все ничтожным».
Произведения ампира производят впечатление несколько жесткой, но внушительной силы, когда один основной мотив подчиняет себе остальные. Это придает такую энергичную выразительность зеркалу, так называемому псишэ имп. Жозефины (202). Его строго овальное обрамление и красиво и благородно. Но вместе с тем зеркало выглядит так, будто создано оно не для того, чтобы в него смотреться, оно существует само по себе, как предмет с лакированной поверхностью, излюбленной мастерами ампира. Классические фигуры двух девушек хорошо подчиняются овалу, но они суше по выполнению, чем аналогичные фигурки в скульптуре XVIII века (ср. 196).
Изменение вкусов сказалось и в костюмах: фижмы были давно уже оставлены, были брошены и те пышные туалеты, в которые во времена Директории рядились элегантные кавалеры и дамы, так называемые incroyables. Мужчины начинают появляться в обществе в гладких черных фраках, которые в XVIII веке существовали лишь для верховой езды. Женщины носят белые туники с высокой талией (стр. 301), но в отличие от туник конца XVIII века с их естественно спадающими складками платье ампира приобретает более геометрический характер и образуем подобие чехла. Скоро возрождается потребность украшать подол платья оборками и лентами, пробуждается любовь к пестрым и полосатым тканям. Все это приводит к исчезновению классической линии в костюме.
Перерождение, точнее, вырождение, классицизма начинается во Франции еще при Наполеоне. Сам император вводит при дворе строгий этикет в духе старой королевской Франции, и вместе с этим побеждают роскошь, чопорность и безвкусие.
Канова, последовательный классик, изображал императора, как древнего героя, обнаженным (полуобнаженной, как Венера, была им представлена и сестра императора Полина Боргезе). Наперекор этому Наполеон требует в портрете представительности, знаков отличий, роскоши и блеска. Уже Персье и Фонтен в своих эскизах к украшению интерьеров (1801) создают богатое и пышное убранство и отказываются от той суровой простоты и обнаженности, которую в свое время провозгласил Леду и архитекторы революционной эпохи. Хотя стены интерьеров Персье и Фонтена ограничены прямыми линиями пилястр и карнизов, они сплошь покрыты сетью орнамента. Это означало откровенный поворот ко вкусам XVIII века, но только вместо ракушек и растительных мотивов применяются римские эмблемы, медальоны, гирлянды, розетки, вазы и канделябры.
Изменение во вкусах не могло не сказаться и в живописи. В произведениях любимого ученика Давида Жерара — придворного художника сначала семьи Бонапарта потом Бурбонов — побеждает красивость, светская утонченность. В его портрете г-жи Рекамье (Париж, Музей города) суровая простота Давида уступает место миловидности, сладострастию. Большее внимание уделяется обстановке. На всем лежит отпечаток приторной слащавости. «Направление, которое я внес в искусство, — отмечал Давид в 1808 году, — слишком сурово, чтобы долго нравиться во Франции». Жироде, Герен, Реньо и ряд других мастеров были проводниками безвкусия и изнеженности в живописи.
Среди наследников Давида особое место принадлежит Энгру (1780–1867). Он получил воспитание в школе Давида. Молодым человеком он отправился в Рим, где долгое время работал в Академии, которую впоследствии возглавлял. Многие предрассудки той мало благоприятной для развития искусства академической среды наложили на него отпечаток. Он мечтал о всеобщем признании и славе и, насилуя свое природное дарование, писал надуманные, напыщенные исторические композиции. При всем том Энгр выполнял благородную роль защитника того «прекрасного идеала», который вдохновлял в свое время революционное поколение и упорно боролся за него в течение всей своей долголетней жизни. «Что остается делать, — писал он другу, — в столь варварские времена (а мы находимся сейчас в совершенном варварстве) художнику, который еще верит в греков и римлян?»