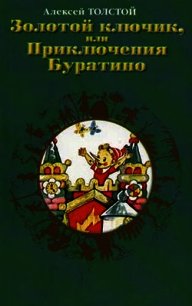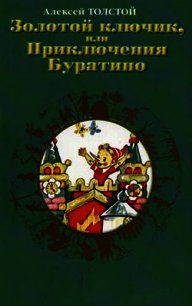Нестеров - Дурылин Сергей Николаевич (книги онлайн полные версии бесплатно .txt) 📗
Рисунком этим Нестеров был недоволен. Он жаловался на то, что «истукан» (бюст) все место отнял и что в нем «ни красы, ни радости». Не был он доволен и фигурой ваятельницы, находя ее вялой, холодной, равнодушной к своему делу. И тут же, в оправдание ей, пояснял, что к такому-де «истукану» и руки не тянутся.
Но 25 октября 1939 года он уже говорил мне (запись в моем дневнике):
«А я начал Мухину. Что-то выходит. Я ее помучил: так повернул, эдак. А ну поработайте-ка. Чем вы работаете?
– Чем придется: пальцем, стекой.
Как принялась над глиной орудовать – вся переменилась. «Э! – думаю. – Так вот ты какая! Так и нападает на глину: там ударит, здесь ущипнет, тут поколотит. Лицо горит. Не попадайся под руку: зашибет! Такой-то ты мне и нужна».
Вот так и буду писать. Но это куда труднее Держинской. Не оборвусь ли?»
Помня «творческие истории» всех портретов Нестерова за двадцать с лишком лет, я впервые заметил за ним этот страх «оборваться» на только что начатом портрете. Он явно волновался, тревожился и развивал мнительные страхи за судьбу портрета – и в то же время был увлечен им.
В действительности большая часть мнительности связана была с тем, что он принялся за портрет одновременно с длительным позированием П.Д. Корину и работал усталый от чужой работы. Одна из причин вялости была и в том, что портрет был начат в хмурые, холодные дни поздней осени, понижавшие бодрость и зоркость 77-летнего художника.
4 декабря Нестеров писал дочери о своем позировании П. Д. Корину:
«Портрет двигается к концу, сегодня 34-й сеанс! Очень уж темно, работать трудно, ничего не видно. П.Д., кажется, доволен…
За Мухину примусь, если буду здоров, едва ли раньше января, так как темно, и мне необходимо обусловить машину, чтобы не ждать подолгу на холоду. Вот тебе какие дела-то…»
Работа над портретом Мухиной была прервана не до января, а до весны.
В мае 1940 года Михаил Васильевич гостил у нас в Болшеве и крепко задумывался «насчет Мухиной». Еще усиленнее становились вопросы-раздумья: «Справлюсь ли? Приниматься ли опять за портрет?»
Я усиленно, как только мог, поддерживал в нем желание писать портрет, боровшееся с этими сомнениями и колебаниями. Мне было ясно: отказ от трудного, но увлекательного портрета равнялся бы для художника, которому наступал 78-й год, признанию своей инвалидности.
23 мая Михаил Васильевич писал мне:
«Я так рад, что мой приезд не наделал вам особых, чрезвычайных хлопот, а со мной и это могло случиться… Стар я стал…
Дни бегут, я их не вижу, так быстро они мелькают.
Работать (портрет Мухиной. – С.Д.) не начинал. Начну, если будет все ладно, после 1-го; таким образом, едва ли смогу до окончания портрета побывать у вас в Болшеве…
Был сегодня в морозовском музее. Любовался «Деревенской любовью», какая прекрасная любовь там изображена!..
Вообще, несмотря ни на что, там много такого, что напомнило мне Италию, Венецию, былое».
День 78-летия Нестерова прошел благополучно: кажется, никогда у Михаила Васильевича не было на его дне рождения столько друзей и близких, и он, бодрый и смелый, принялся за портрет Веры Игнатьевны Мухиной.
Расхолаживавший художника «истукан» был забракован навсегда.
Вера Игнатьевна рассказывала мне:
«Михаил Васильевич хотел писать меня за работой. Я и работала непрерывно, пока он писал… Из всех работ, бывших в моей мастерской, он сам выбрал статую Борея, бога северного ветра, сделанную для памятника челюскинцам. Он сам выбрал все: и статую, и мою позу, и точку зрения. Сам определил точно размер портрета. Все – сам.
Работал он всегда со страстным увлечением, с полным напряжением сил, до полного изнеможения.
Я должна была подкреплять его черным кофе. Во время сеансов велись оживленные беседы об искусстве. Но когда он входил в азарт, все умолкало. Он с самозабвением отдавался работе».
К рассказу В.И. Мухиной надо добавить: врачами давно указан был Нестерову строго определенный срок для сеансов – полтора-два часа: этого требовал его возраст и состояние его здоровья. Но он, всегда нетвердый в соблюдении этих охранительных сроков, сплошь нарушал их в работе над портретом Мухиной.
Редко каким портретом Михаил Васильевич был так увлечен, как этим, и редко о каком портрете он слышал столько похвал.
Понятно, почему Нестеров из всех скульптур Мухиной перенес на полотно Борея: он – весь движение, он – весь устремление ввысь, он – единый порыв, преодолевающий все препятствующее, все, встающее на пути – и на каком пути: безоглядном, беспредельном, бескрайнем, вперед, ввысь, всюду!
Фигура ваятельницы поражает своим спокойствием. Гипсовый Борей, кажется, еще миг – сорвется с постамента и, как и подобает северному ветру, унесется в неоглядные просторы, все круша и оледеняя на своем бурном пути. А та, из чьих рук готов он взлететь, со спокойствием – хочется сказать: с привычным трудовым спокойствием – удерживает его на месте. Руки ваятельницы с особою любовью выписаны художником: «Самый лучший инструмент при работе по глине руки… Руки и ноги так же выразительны, как и лицо», – эти две заповеди из книжки Голубкиной «Несколько слов о ремесле скульптора», – книжки, любимой Нестеровым, – он слил в одно целое: прекрасные руки Мухиной необыкновенно «выразительны», они сполна убеждают в том, что «самый лучший инструмент при работе» ваятеля – рука. С какою профессиональной уверенностью, с какою зоркостью рук ваятельница касается статуи, но и с какою материнскою бережливостью, как к прекрасному, но хрупкому ребенку!
Эта профессиональная уверенность, трудовая выносливость, энергичная стойкость, – это прекрасное спокойствие мастера чувствуются во всей фигуре Мухиной. И Нестеров был полностью прав, когда решительно отводил от себя упрек в том, что в фигуре ваятельницы «мало динамики». Он и не хотел этой внешней «динамики» в фигуре Мухиной; он знал, что она может повести к пластической декоративности, к театрализации позы. А он передавал трудовой час опытного мастера, который знает, что для успеха его художественного труда нужна не вспышка «динамики» – мгновенного порыва, а артистическая зоркость глаза, бестрепетная меткость руки, как «лучшего инструмента» ваятеля. Все это и передано в фигуре Мухиной.
Но всмотритесь в ее лицо: вот где она – мать этого стремительного Борея, вот где она – вся в творческом устремлении!
Нестеров сам пришел к мысли, выраженной А.С. Голубкиной, чей портрет он так мечтал написать:
«Движение, подобно конструкции, должно быть почувствовано внутри: ассирийцы и египтяне передавали стремительное движение при неподвижной одежде. А головы, отбитые от статуй греков, сохраняют движение целого».
Вот именно так Нестеров передал движение в портрете Мухиной; ее рабочая блуза – почти «неподвижная одежда», а в ее «голове» воплощено «движение целого», «почувствованное» художником «внутри». Это глубокое внутреннее движение – подлинно творческое движение – сосредоточено в крепко сомкнутых устах, в озабоченно прихмуренных строгих бровях и в необычайной, сторожкой, ищущей зоркости серых глаз, пронизывающих своим острым взором бурное детище этих спокойных рук.
В этих глазах раскрыта поразительная энергия творческой воли, в этой голове выражен целый мир творческих дум и устремлений.
Краски портрета намеренно скромны, благородно сдержанны: пепельные волнистые волосы, темно-синяя блуза ваятеля, белая легкая кофта, поверх которой надета блуза, круглая красная брошь, скрепляющая ворот кофты, синевато-лиловый отсвет блузы на деревянном постаменте, на котором стоит белый гипсовый Борей.
Вот и все. Но эта мудрая сдержанность красок, это благородное спокойствие тонов только увеличивают смелую стремительность ритма, только усугубляют страстную действенность всего портрета.
Портрет Мухиной – вершина советской портретной галереи Нестерова: в нем старый художник оказался моложе молодых в своем глубоком вчувствовании в творческую волю своего современника, в своей горячей любви к нему. Могучий ритм революционной эпохи есть внутренний ритм этого удивительного портрета.