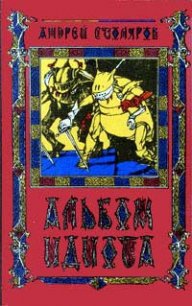Альбом для марок - Сергеев Андрей Яковлевич (читать книги онлайн бесплатно серию книг .TXT, .FB2) 📗
Другая страна интересов Иосифа в то время – Германия. Тут его влекла мрачная эстетика германизма. Когда однажды он попал на одесскую студию – пробовался на роль какого-то комсомольского босса, – он первым делом снялся не в лысом гриме, а в вермахтовском мундире, по-моему, с крестами. Помню, мы с ним ходили на “Нюрнбергский процесс” в кинотеатр “Украина” на “Багратионовской”. Как он реагировал на большого американца Спенсера Трейси, на обожаемую немку Марлен Дитрих! Вернувшись на Малую Филевскую, мы крутили немецкие пластиночки – чехословацкие, лицензионные, с ходкими немецкими певцами. Иосифу страшно нравились тогдашние звезды – Петер Александер, Удо Юргенс. Была такая песня “Was ich nicht sagen kann, sagt mein Klavier”, медлительная, и в ней было некое походное движение, так что эту лирическую могли бы петь солдаты. И мы слушали по нескольку раз и фантазировали, что вот немецкие танки идут из Парижа на Балканы, брать Югославию. И сидят на броне этакие рыцари вермахта, в пыли, поют эту песню. “Компарсита” (тогда на этикетках писали еще не “Кумпарсита”) тоже была немецкого происхождения – мы с Иосифом слушали ее по многу раз и вспоминали бездарный геббельсовский фильм “Восстание в пустыне” – там она впервые предстала нашим детским ушам.
Иосиф говорил, что обожает джаз, что иностранцы нанесли ему джазовых пластинок (джазовых у меня не было); утверждал, что лучше всех в Ленинграде знает Моцарта – хотите верьте, хотите проверьте.
Я пытался показать Иосифу город, который он совершенно не знал. Оказалось, что смотреть он не способен. Грандиозная удача, можно сказать, прорыв: я сводил его в свой любимый Донской монастырь, который был благодатным тихим местом, за исключением неуместных могил старых большевиков над рвом с расстрелянными. А так – могилы патриарха Тихона, Чаадаева, пушкинская родня, вообще масса хороших людей. Стильные надгробья XVIII века. И еще чудесная скульптура Андреева – Христос. Иосифу там очень понравилось. На обратном пути из Донского долго шли пешком, в приподнятом настроении, рассуждали, строили планы – насчет нас самих, насчет того, что будет. Как удастся прожить, просуществовать в условиях максимальной социальной и материальной несвободы, что удастся написать, перевести, сделать – без утопий.
Иосиф зачастил в Москву, останавливался и у меня, и во множестве других мест, чаще всего у своего лучшего московского друга Мики Голышева.
В разных домах, при любом стечении публики много читал свое. Начинал он обычным своим голосом, отрубал строку от строки по живому мясу анжамбеманов, разогревался от строки к строке, повышал голос до крика – куда исступленнее, чем видно по поздней кинохронике. И эта исступленность была как в маленькой комнате, так и в большой аудитории.
Читал предпосадочное (редко), сочиненное в ссылке, новое:
“Одна ворона (их была гурьба…)”,
“Пророчество”,
“Послание к стихам”,
“Одной поэтессе”,
“Письмо в бутылке” и т. д.
На моих глазах росла гениальная постройка “Горбунова и Горчакова”. Не менее гениальной показалась не дописанная из-за посадки поэма “Снег, снег летит…”. Наверно это и была та самая запрещенная, о которой он упоминал в письме. Иосиф показал ее очень не сразу, обтерханную, засаленную – блины пекли.
Я не жалел слов, когда нравилось. Когда не понравилось стихотворение “Прощайте, мадемуазель Вероника”, раскритиковал как написанное на холостых оборотах, почти обидел. Вообще страшно много делал всяких замечаний, которые он практически не учитывал, но выслушивал без скандала.
Некоторые его стихи выдают один присест. А длинные огромные стихи писались – вот такой напор идет, за день он иссякнуть не может. Назавтра рождаются какие-то новые ви́дения того, что уже сделано, и – исправлений множество. Переделывал он свои стихи основательно, пристрастно переделывал. Печатал стихи на машинке – не любил писать от руки, потому что писал размашисто, – печатал через один интервал вровень с левым обрезом убористые-убористые строфы, так чтобы на страницу влезло как можно больше; огромное стихотворение в несколько столбцов, два, или даже три, помещалось на одной, двух, может быть, трех страницах. Никогда на обороте не писал – ему нужно было видеть текст, как картину. По картине и правил. Выразительно марал перьевой самопиской, разгонистым почерком. Яростно зачеркивал, вписывал, заполнял поля, – и мог бутерброд маслом вниз уронить на рукопись совершенно элементарно.
Иосиф страшно много ловил из воздуха. Он с жадностью хватал каждый новый item и старался его оприходовать, усвоить в стихах. Можно сказать, ничего не пропадало даром, все утилизировалось – с невероятной, ошеломляющей ловкостью.
В Москве Иосифа очень скоро повезли к Надежде Яковлевне Мандельштам. Он принял ее на ура – и саму, и книгу. Захлебываясь, с восторгом, с улыбкой: “самая веселая вдова в мире”. Н. Я. говорила про Иосифа нежно: “Ося второй, Ося младший”, что не мешало в другой раз сказать: “обыкновенный американский поэт”.
И у Н. Я., и в других домах, куда ходил Иосиф, собиралось общество. Общество бывало разное. Когда про Иосифа говорилось “великий”, кого-то это скандализовало. Даже многие из тех, кто потом пел Иосифу дифирамбы, тогда смотрели на него как баран на новые ворота.
Но и при нормальном понимании, и без понимания к нему относились с открытой душой. Нельзя сказать, что всюду он сразу попадал в центр внимания. Конечно, он много и замечательно говорил – хотя все-таки это был не тот блеск, какой в общении с глазу на глаз.
В откровенно дружественных домах Иосиф был сама ласковость. Когда ласкали его, он почти мурлыкал и мог сказануть такое, что прямо противоречило его обычным словам и утверждениям. По-моему, Иосиф чрезвычайно зависел от собеседника, иногда чуть ли не попадал в рабство – на десять минут, полчаса. Но вот уже, развивая тезис или отвечая, он вскидывал голову и в сослагательно-мечтательном наклонении выдавал что-нибудь безапелляционное. К тому же в характере у него был дидактизм, и самые невинные вещи он мог выговаривать четким вразумляющим тоном.
Иосифу не было свойственно обдумывать в разговоре следующий шаг – свой или ближнего. К счастью, он не находил удовольствия в том, чтобы по-бытовому перечить всему на свете. Но были вещи, которые он безоговорочно не принимал.
При мне Иосиф редко бывал спорщиком, врагом собеседника. Только однажды я видел, как он убивал. Столярова, секретарша Эренбурга, пригласила Иосифа и нелепо соединила с литературоведом Пинским. Кончилось тем, что Пинский выкрикнул:
– Пастернак, Ахматова, Заболоцкий – я бы хотел, чтобы они умерли в 29 году!
Иосиф, выдержав хорошую театральную паузу, с нажимом спросил:
– А о чем они писали после 29 года?
Пинский сказал, что он так не может. Иосиф нравоучительно-назидательно:
– А я могу. После 29 года они писали о Боге. Вам это не нравится?
Иосиф не был профессиональным остряком, хотя часто бывал шутлив. Иной раз, брякнув что-нибудь замечательное, сам собой восхищался, удивлялся и повторял вполне наивно и трогательно. Хихикая, выдавал любимые присловья:
“Мойше, не дергай папу за нос и вообще отойди от покойника!”
“Первая статья конституции Ганы: Каждый мужчина по природе полигамен”.
Стихотворцем-импровизатором не был. С ходу при мне только раз выдал двустишие. Принес Саше Пятигорскому фотографию Вивека́нанды (Иосиф успел в юности отдать какую-то дань индийскому), Пятигорский умилился, Иосиф перевернул фотографию и написал: