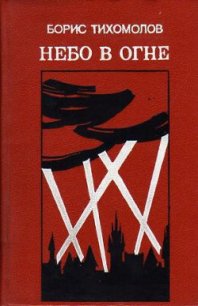На дне блокады и войны - Михайлов Борис Борисович (книга жизни txt) 📗
Я, помню, сидел около входа и то ли что-то пропустил в разговоре, то ли уже подзабыл, как разворачивались события, но сейчас хорошо вижу осунувшееся серое после бессонных ночей лицо замполита и его злобный грубый допрос: «Ты с кем сейчас спишь? С кем еще спала?» Мне это запомнилось, ибо впервые в жизни присутствовал при разговоре, когда мужчина разговаривает с женщиной и все называет своими именами. Манька, нагло и зло глядя ему в лицо, что-то отвечала, а в конце, ничуть не стесняясь, послала его туда же, куда посылала надоедливых «ухажеров» и, пользуясь возникшим замешательством, выскочила из землянки. «Ефрейтор, вернитесь!» — закричал ей вслед замполит. Но Маньки и след простыл. Послали солдат. Когда уже все начали расходиться, солдаты приволокли всю в грязи зареванную Маньку. Замполит по телефону вызвал из батальона автоматчиков. Те долго не появлялись. Наша минометная рота стояла неподалеку от штаба батальона, и, когда я уходил, замполит бросил: «Михайлов, доведи ефрейтора до штаба, но смотри…» (А что смотреть?) Мы пошли молча. Лишь шедшая впереди Манька иногда пьяно всхлипывала.
Ход сообщения сначала шел вдоль первой линии окопов. Манькина спина то ярко освещалась светом взлетающих ракет, то будто проваливалась в сплошную темень. В эти моменты я старался держаться ближе, чтобы не упустить ее из виду. Вот-вот должен быть поворот в тыл. Я окликнул Маньку, и тут же в кромешной тьме уперся в ее распахнутую шинель и мягкие объемистые груди. Манька, широко раскинув руки, бесстыдно улыбалась. Она обхватила меня и потянулась целоваться…
Не знаю сколько прошло времени. Может быть минута, может быть две. Помню только, как ее губы, язык лихорадочно и обдуманно проникали мне в рот, в тело, вызывая закодированные природой ответы…
Рядом в тыловом ходе послышались шаги: «Это ты, Манька?» Из темноты вышли два автоматчика. «А ну, пошли домой!» И я, еще не остывший ни от ее пьяных поцелуев, ни от ротного самогона, с досадой на так не вовремя появившихся автоматчиков вернулся в роту.
Дня через два-три, когда мы уже снялись с этой линии обороны, на марше в батальоне появились незнакомые врачи и офицеры. Допрашивали и проверяли всех офицеров и солдат: «Кто спал с Манькой?!» У нее обнаружили сифилис.
Я, забравшись в дальний конец окопа, куском немецкого мыла усердно тер губы, десны, зубы, кончик языка, а затем полоскал водой, собранной из дождевых луж…
«Сорочка» и тут крепко держала поводок, бдительно следя за каждым моим шагом.
В начале декабря полковым артиллеристам и даже нам, батальонным минометчикам, выдали новенькие хрустящие «сотки» — топографические карты масштаба 1:100 000 (километровки), по которым, в основном, мы ориентировались при стрельбе. На картах появилась Надьканижа — центр нефтяной промышленности Венгрии и последний источник натуральной нефти Германии.
Во что бы то ни стало! Любой ценой!!
К нам в пехоту, собирая с миру по нитке, списывали, направляли, посылали, откомандировывали всех, кого только можно было угрозами и силой оторвать от фронтовых тылов. Но стрелковые взводы, гонимые вперед приказами, матом, наконец, палками, таяли быстрее, чем подходило пополнение. Наступление выдыхалось…
В книге «Путь к Балатону» (М. Н. Шарохин, В. С. Петрухин. М., Изд-во Минобороны СССР. 1966) об этих днях сказано так:
«Упорной обороной рубежа Керестур — Марциал и к — Надьбайом — Визвар в середине декабря противнику удалось задержать продвижение 57 армии. Особенно ожесточенные бои велись в районе Надьканижи».
Это как раз там, где были мы. Даже врагу не пожелаю оказаться в том положении. Сколько солдат полегло в боях за Надьбайом — не знаю, но много. Не зря пехота его нелестно переименовала в «Насебом».
Все те дни стоят перед глазами. Чтобы не оказаться нудным и, не дай Бог, вызвать жалость к себе читателей, расскажу только о последнем дне наших боев — 11 декабря.
После нескольких погожих дней 10 декабря резко изменилась погода. К вечеру подул сырой порывистый ветер, бросая в лица и без того промокших солдат колючий зимний дождь. Ночь провели в сарае. Костры не разжигать! С утра — снова вперед! После полудня километрах в двух-трех появились дома и высокая белая колокольня. Вероятно, это были уже предместья Надьбайома? Разведчики донесли: в домах немцы.
Перед домами поле. На его краю болотистый кустарник, в котором начали собираться остатки пехоты. Команда: «Окопаться!» Атака будет завтра под утро без артподготовки. Замысел командования: застать немцев врасплох, спящими в теплых кроватях крайних домов.
Копать в кустарнике нельзя — сразу вода. Кое-как прикрытые ветками минометы на глазок, без огневой пристрелки, направили на дома. Я наломал себе побольше ивовых прутьев, подстелил плащ-палатку и пытаюсь как-то прикрыться от противно падающих на лицо мелких и очень мокрых капель. Зуб на зуб не попадает, а впереди еще вся ночь!
Чуть-чуть забрезжил восток, и жидкая пехотная цепь молча пошла по полю. Мы с замиранием сердца следили за движением солдат. Немцы молчали. И только когда до первых домов оставались буквально считанные метры, одна за другой на пути солдат начали рваться пехотные мины— минное поле! Вслед за разрывами передний край немецкой обороны взорвался пулеметным и автоматным огнем. Цепь залегла. Атака сорвалась. Ни один пехотинец не вернулся назад.
Оставив у минометов несколько человек, вся наша рота рассредоточилась вдоль кустарника. Между минометами и немцами никого. Нам предстояло держать свой кусочек бесконечного советско-германского фронта. Из тыла старшина с ездовым приволокли термос баланды, хлеб и две фляжки спирта. Правда, немцы в тот день и не собирались выходить из теплых сухих домов, ибо в такую погоду хороший хозяин и собаку на улицу не выгонит. Другое дело— наше командование. Оно решило держать нас в болоте, посылая грозные приказы о наступлении. Выполнять приказы было некому.
В декабре и в Венгрии день короткий. К вечеру дождь перешел в мокрый снег. Все поле забелело. Лишь черными оспинами на нем выделялись воронки от разрывов мин, да замерзшие тела солдат. Немцы не стреляли. Мы — тоже.
В тот день 11 декабря, когда совсем стемнело, и в кустах, не боясь немецких снайперов, можно было вставать в полный рост, с минного поля из-под немцев приполз солдат и сказал, что там лежат раненые. Между собой решили: парами, тройками ползти к минному полю вытаскивать раненых.
Разве я могу забыть: ползешь по мокрому снегу, оставляя за собой след промозглой зимней грязи. Каждое мгновение можешь зацепиться за оттяжку немецкой «лягушки» — прыгающей противопехотной мины. Впереди что-то темнеет. Немцы рядом. Шепотом кричишь: «Эй, солдат, жив?!» Молчание. Что там? Подползаешь ближе. Полуоткрытые мертвые глаза. Снег застыл на лице. Не тает. Ползешь дальше. Если на лице нет снега, значит еще живой…
За ночь мы втроем нашли и приволокли на плащ-палатке двух тяжелораненых, у других «урожай» был больше. Большинство раненых оказались с обмороженными руками, ногами, и их сразу же отправляли в тыл.