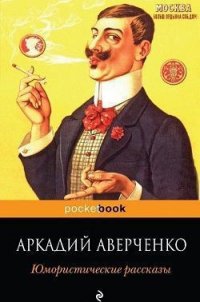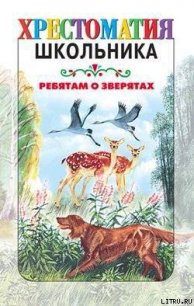Тропа к Чехову - Громов Михаил Петрович (читаем книги онлайн бесплатно без регистрации .txt) 📗
Это было написано черным по белому, а в конце – имя большого человека. Антон Павлович прочел и был до того взволнован, поражен, потрясен, как, по всей вероятности, никогда больше в жизни. «Я едва не заплакал… и теперь чувствую, что оно <письмо> оставило глубокий след в моей душе… Я как в чаду. Нет у меня сил судить, заслужена мною эта высокая награда или нет… Если у меня есть дар, который следует уважать, то, каюсь перед чистотою Вашего сердца, я доселе не уважал его… Чтоб быть к себе несправедливым, крайне мнительным и подозрительным, для организма достаточно причин… Доселе относился я к своей литературной работе крайне легкомысленно, небрежно, зря… Писал я и всячески старался не потратить на рассказ образов и картин, которые мне дороги и которые я, Бог знает почему, берег и тщательно прятал».
Так писал он старому Григоровичу в своем ответном благодарственном письме, ставшем известным гораздо позднее, а написав письмо, отправился в земскую больницу – на вскрытие или к тифозному больному: последнее вероятнее всего, если вспомнить о поручике Климове, сыпнотифозном больном, герое рассказа «Тиф», в котором Антон Чехов со столь совершенным мастерством раскрыл перед нами его мысли и чувства. После письма Григоровича он больше не называл себя Антошей Чехонте.
Ему был дан короткий срок жизни. Первые признаки туберкулеза появились у него уже в двадцать девять лет, а он был врачом и знал, чем это грозит. Вряд ли он льстил себя надеждой, что его жизненные силы позволят ему достигнуть патриаршего возраста Толстого, и мы невольно задаемся вопросом: не привело ли сознание того, что ему недолго суждено пробыть гостем на земле, к развитию в нем своеобразной скептической, бесконечно обаятельной, тихой скромности, которая определяла весь его духовный и художнический настрой? Подсознательно эта скромность стала отличительным качеством его художнического облика, отметила его существо удивительным обаянием. Двадцать пять лет, не больше, было дано ему для всех творческих исканий, всех свершений, и, право же, он использовал этот срок сполна. Около пятисот рассказов написано им, многие размером с «long short story», и среди них – такие шедевры, как «Палата № 6», где врач, из отвращения к глупому, нищему миру нормальных людей, настолько тесно сходится с занятным сумасшедшим, что этот мир объявляет врача умалишенным и изолирует его…
Но если уж приводить примеры и хвалить, то непременно следует назвать «Скучную историю», рассказ, которым я дорожу у Чехова больше всего; это совершенно необыкновенная, чарующая вещь, во всей литературе не сыскать ничего похожего на нее, – такая она печальная и странная. Эта история, именующая себя «скучной», а на самом деле потрясающая, удивительна своим глубочайшим проникновением в психологию старости, тем, что она вложена в уста старика молодым человеком, которому не было еще и тридцати лет. Ее герой, ученый с мировым именем и генеральским чином, «его превосходительство», в своих излияниях то и дело величает себя: «мое превосходительство», желая сказать этим: «подумаешь, важность какая!» Ибо, хотя он и стоит куда как высоко на иерархической лестнице, он не утратил способности к критике и самокритике, не оскудел духовно настолько, чтобы не видеть всю смехотворность своей славы и того почтения, которое ему оказывают, и не отчаяться в глубинах своей души, обнаружив, что в его жизни, при всех его заслугах, не было духовного центра, «общей идеи», что по существу он прожил бессмысленную жизнь, жизнь пропащего человека…
Жизненная правда, к которой прежде всего обязан стремиться писатель, обесценивает идеи и мнения: она по природе своей иронична, и это часто приводит к тому, что писателя, который превыше всего ценит истину, упрекают в беспринципности, равнодушии к добру и злу, отсутствии идей и идеалов. Чехов протестовал против такого рода упреков: он доверяет читателю, пусть тот сам восполнит отсутствующие в рассказе скрытые, «субъективные», то есть касающиеся авторского отношения к описываемому, элементы, сам догадается о том, какую моральную позицию занимает автор. Откуда же тогда его «боязнь», неприятие своей славы, опасение, что он талантливо обманывает своих читателей, поскольку у него нет ответа на важнейшие вопросы? Откуда эта пугающая способность забираться в душу отчаявшегося старца, сознающего, что в его жизни не было «общей идеи», «без которой вообще ничего нет», и на вопрос растерявшейся девушки: «Что мне делать?» – отвечающего: «По совести: не знаю»?
Если правда жизни по природе своей иронична, то искусство, видимо, по природе своей нигилистично? А ведь оно основано на трудолюбии! Оно, так сказать, труд в чистом, наиболее отвлеченном виде, парадигма труда, труд в себе. Чехов любил работать, как никто другой. Горький сказал о нем, что «не видел человека, который чувствовал бы значение труда как основания культуры так глубоко и всесторонне, как Чехов». И в самом деле, он работал непрерывно и без устали, невзирая на хрупкость своей конституции, невзирая на болезнь, подтачивавшую его силы, – работал изо дня в день, до последнего вздоха. Более того, он проделывал эту героическую работу, не переставая сомневаться в ее смысле, испытывая постоянные угрызения совести оттого, что ей недостает центральной «общей идеи», что на вопрос: «Что делать?» – у него нет ответа и что этот вопрос он бездумно обходит, описывая одну только неприкрашенную жизнь. «Мы пишем жизнь такою, какая она есть, – говорил он, – а дальше – ни тпру ни ну…» Или: «При таких условиях жизнь художника не имеет смысла, и чем он талантливее, тем страннее и непонятнее его роль, так как на поверку выходит, что работает он для забавы хищного нечистоплотного животного, поддерживая существующий порядок».
«Существующий порядок» – это нетерпимый порядок девяностых годов в России, при котором жил Чехов. Но его скорбь, его сомнения относительно смысла работы, ощущение странности и непонятности его роли как художника носят вневременный характер и не могут быть связаны исключительно с тогдашними русскими условиями. «Условия» – я хочу сказать, неблагоприятные условия, знаменующие роковой разрыв между правдой и реальной действительностью, существуют всегда; и в наши дни у Чехова есть братья по мукам душевным, которые не рады своей славе, ибо им приходится «забавлять гибнущий мир, не давая ему ни капли спасительной истины», – так, во всяком случае, принято говорить; они с таким же успехом могут поставить себя на место убеленного сединами героя «Скучной истории», не умевшего дать ответ на вопрос: «Что делать?»; они тоже не могут сказать, в чем смысл их работы; они тоже, несмотря ни на что, работают, работают до последнего вздоха…
Он не был похож ни на буревестника, ни на мужика, ставшего гением, ни на бледного преступника Ницше. С фотографий на нас глядит худощавый мужчина, одетый по моде конца XIX века, в крахмальном воротничке, в пенсне на шнурке, с острой бородкой и правильным, несколько страдальческим, меланхолически приветливым лицом. Черты его выражают умную сосредоточенность, скромность, скепсис и доброту. Это лицо и вся манера держаться свидетельствуют о том, что он не терпит вокруг себя никакой шумихи. В нем нет ни капли претенциозности. И если даже проповедничество Толстого казалось ему «деспотическим», а романы Достоевского «хорошими, но нескромными, претенциозными», то можно себе представить, как претила ему напыщенная бессодержательность. В обличении ее он достигает вершин комизма. Несколько десятилетий назад мне довелось увидеть в Мюнхене одну из его пьес, которые все звучат приглушенно и проникнуты ощущением того отмирающего, изжившего себя, существующего фиктивно, что было характерно для жизни помещичьего класса; я видел пьесу, в которой все драматические эффекты восполняются глубочайшим, тончайшим лиризмом – настроением конца и прощания, – пьесу «Дядя Ваня». В ней выведена дряхлая знаменитость, карикатура на героя «Скучной истории», профессор в отставке, тайный советник, пишущий об искусстве, в котором он ничего не смыслит, и тиранящий семью старческим брюзжанием, своею мнимой значимостью и своей подагрой, – нуль, убежденный в своем величии. Прощаясь с ним, одна хорошая женщина целует его и говорит: «Александр, снимитесь опять и пришлите мне вашу фотографию. Вы знаете, как вы мне дороги». Всякий раз, когда впоследствии я вспоминал это «Александр, снимитесь опять», мне неудержимо хотелось смеяться, и Чехов виноват в том, что иногда я думал кое о ком: «Этому тоже следовало бы сняться!»