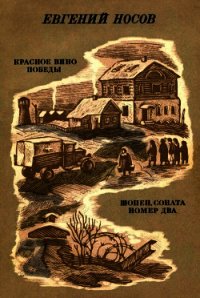Шопен - Оржеховская Фаина Марковна (онлайн книги бесплатно полные TXT) 📗
Глава девятая
Когда на Майорку наконец прибыл рояль, после трехнедельной задержки в таможне, Аврора вздохнула свободно. Шопен изнывал без рояля; он, вероятно, и заболел от тоски – она обострила его недуг, вызванный простудой. Он был, в сущности, вынослив и мог переносить довольно сильные страдания. Но мелочи убивали его. Какой-нибудь пустяк вызывал крайнее раздражение, в то время как он с удивительной кротостью, без малейшей жалобы, проводил бессонные, мучительные ночи.
Правда, обстановка была слишком мрачна. Одинокие на этом острове, отрезанные от всего мира, путешественники чувствовали себя здесь отверженными: болезнь Шопена внушала жителям суеверный страх. Поэтому уход за больным был чрезвычайно сложен. Но и сама природа вокруг навевала тоску. Небо было покрыто тучами, море шумело, свист бури, жалобный, надрывающий душу вой ветра, крик морских птиц, должно быть заблудившихся в тумане, – все это отзывалось нескончаемым эхом под сводами монастыря. Дети были в восторге именно оттого, что вокруг так страшно, и лазили по шатким террасам, рискуя жизнью. Аврора категорически запретила им эти «поиски таинственного», к великому их огорчению. Для них зима на Майорке осталась чудесным воспоминанием. Аврора также могла бы сказать, что очутилась в сказочной стране, но состояние Шопена внушало ей большую тревогу. Бывали даже дни, когда она приходила в отчаяние и, убежав в свою комнату, падала на колени и заставляла себя молиться. Ей было страшно, но она верила, что Шопен будет жив. Другой мысли она не допускала.
Но он плевал кровью, иногда это кровохаркание длилось по нескольку часов. Чего стоило ей решиться прогнать врачей, настаивающих на кровопускании! Один из них сказал: – Вы слишком много берете на себя, сударыня! Как бы вам потом всю жизнь не терзаться раскаянием! – Она вся дрожала после их ухода. Но властный инстинкт повелевал ей не допускать эту варварскую операцию, и она повиновалась ему, как всегда в жизни. И действительно, Шопену стало лучше. В монастыре зазвучала музыка.
Аврора умела ухаживать за больными, как умела шить, вязать, стряпать. У нее были очень проворные, хоть и маленькие, руки. Но самый вид больных, всякая мысль о болезни внушали ей отвращение. Она была слишком здорова сама. Ей казалось, что больные намного преувеличивают свои страдания, рисуются перед самими собой, а когда ей приходилось убеждаться в подлинности их страданий, она невольно отворачивалась от них – не только из жалости, но и какой-то неловкости, может быть за себя, за свое собственное здоровье. Больные были люди иного склада, чем она, и ей невозможно было понять их.
Но, помимо болезни, в характере Шопена многое удивляло и даже пугало Аврору. Она узнала ту сторону его души, которая не всегда «озарена солнцем», то есть вдохновением, и невольно думала, что, пожалуй, лучше было бы оставаться для него Италией, то есть видеть его не часто, а лишь тогда, когда у обоих хорошо на душе, соединиться с ним только для радости, но никак не для горя. Она не всегда понимала его. Правда, она уверяла всех, что почитает в дорогих существах даже то, что ей непонятно. Но все же это «почитание» не могло сгладить рознь между нею и Шопеном, огромное несходство их натур. Она не понимала его замкнутости, ранимости, нервной, болезненной чуткости; она, которая была откровенна с целым светом, не понимала, как он может быть недостаточно откровенен с ней. Ей ужасно хотелось рассказать о путешествии на Майорку, а еще раньше – о своей любви, друзьям и знакомым. Она чувствовала бы реальность своего счастья сильнее, рассказав или описав его. Иногда разговор с подругой или приятелем о том, что составляло ее тайну и блаженство, бывал не менее приятен, чем сама тайна. Но Шопен ненавидел всякое афиширование, страдал от нескромных взглядов, был почти холоден с ней при посторонних и, конечно, доставлял еще большую пищу для сплетен этой холодностью, слишком заметной по сравнению с подчеркнутым страстным вниманием Авроры. Она не сердилась, не упрекала его: она слишком хорошо знала, что она для него и как он дорожит ее любовью, – но ей становилось грустно и даже горько.
Были и другие расхождения. Хотя она и оказала ему в первый месяц их знакомства, что музыка – это область, к которой она не рискует приблизиться, ибо не знает точных слов для ее определения, она не раз пыталась описать новые пьесы Шопена, его прелюдии. Она говорила ему и присутствующим тут же Морису и Соланж, что эти прелюдии рисуют целые картины. Одни из них вызывают в воображении тени усопших монахинь и звуки похоронных песнопений; другие полны меланхолической прелести, ибо создавались в яркие дни, при отдаленном звоне гитар, при созерцании маленьких роз, расцветающих под снегом; третьи проникнуты «унылой грустью, услаждая ухо, но наполняя сердце отчаянием». Пока она все это говерила, а дети слушали, Шопен сидел молча, с отчужденным, но спокойным видом. Но когда Соланж, которая вечно задавала рискованные вопросы, вдруг спросила: – А где же тут розы? А где гитара? А почему снег? – он насмешливо улыбнулся и сказал: – Этого, душенька, там нет, но если захочешь, то сможешь увидеть и это и многое, многое другое! – А самой Жорж Санд он сказал поздно вечером: – Право же, милая Аврора, не стоит забивать головы детей описаниями, которые мало соответствуют истине! И потом музыка, которая «наполняет сердце отчаянием», – плохая музыка! – Она согласилась с ним, немного посмеялась над собой, и он был потом удивительно мил с ней. Но через несколько дней опять произошло столкновение между ними, по. другому поводу, но на этот раз более серьезное.
Был очень суровый, ветреный день. Шел дождь, сильно волновалось море. Тем не менее, склонившись на просьбы детей, Аврора отправилась погулять с ними. Дождь усилился, дорога сделалась непроходимой, и путешественники после многих приключений вернулись домой поздно ночью. Прогулка показалась им восхитительной, Морис и Соланж потом долго вспоминали ее. Но Шопен не на шутку встревожился, как бывало в детстве, когда надолго отлучалась мать. Он не скрыл своего беспокойства от Авроры, а когда они остались одни, опустился перед ней на колени, крепко обнял ее стан, словно желая проникнуться ее силой, здоровьем, уверенностью.
– Ах, что я пережил здесь один! – прошептал он, – это ужасно! – Он был бледен, и что-то страдальческое застыло на его сильно похудевшем лице. В первый раз за все время Аврора сделала попытку осторожно высвободиться, и он тут же поспешно отпустил ее. Смущенная, она предложила ему поиграть, если он в состоянии. Фридерик согласился – это должно было успокоить его. Он играл, а Аврора думала: «Музыка прекрасна, но экзальтация, породившая ее, чрезмерна. Неужели подобные сцены будут повторяться?»
Когда он умолк, она сказала:
– В средней части явственно слышится похоронное шествие монахов!
– Не знаю. Может быть, – коротко ответил он.
– А эти монотонные звуки, – она пропела одну из сыгранных фраз, – разве это не капли дождя? Так и слышно, как они падают на нашу черепичную крышу!
Но тут Шопен почувствовал раздражение. Не сами ее слова, но то, что она именно теперь начала распространяться о музыке, было ему неприятно. С обостренной чуткостью он воспринимал эти разглагольствования как плохой признак: ей было тяжело с ним, ее угнетала его болезнь-вот в чем дело! Она уже не… Но он не мог сказать ей этого и против воли сам заговорил о музыке.
Вначале сдержанно, но очень недовольно он сказал, что совершенно не слыхал, как падают капли, тем более что никакие капли не падали, а дождь лил как из ведра. Это было то недоверчивое, почти презрительное отношение к прямому звукоподражанию, которое Жорж Санд знала за ним. Но она с готовностью поддержала спор, и Шопен отметил эту готовность: она внутренне обрадовалась, что он не уклонился от посторонней темы, – в эту минуту музыка была для него посторонней темой, и она знала это!
– В конце концов, – воскликнула Аврора, – если музыка доступна одним только музыкантам, для чего же обыкновенным смертным слушать ее?