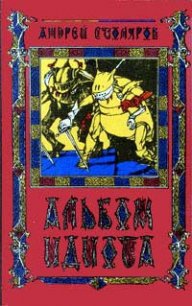Альбом для марок - Сергеев Андрей Яковлевич (читать книги онлайн бесплатно серию книг .TXT, .FB2) 📗
Уния не удалась. Хотели на латинке печатать – уже поздно. Катедра православная, никакую ябеду не бросишь. Швайпольт Фиоль за сто лет до Федорова русские книги печатал – пять книг: “Октоих”, “Осьмигласник”, “Часослов”, “Триодь цветная”, “Триодь постная”. И тексты не в Москве брал, свои нашлись, в Перемышле.
Ну про́шу вас, без префаций, это же всем известно. Конечно, Федоров был иезуит – кто еще? И Скорина. И оба нехорошо кончили. Федоров здесь погребен, у Онуфрия, но могила затеряна. Увы, сам Гутенберг нехорошо кончил – как великие люди, – как Есенин, как Маяковский. Да-да, Пара́цельс был немец. Сами тогда сделали крик, что читает лекции на варварском языке. Но на варварском языке не написали бы Лессинг, Гердер, Гёте, Шекспир – простите, Шиллер. И Коперник в Болонье сам записал, что немец – зачем ему было врать. Мы тогда еще вместе были. Это потом немцев – славян повро́знили.
Поляки хотят Коперника захватить. Поляки всегда ищут родину, где ее нет. За это они и Жеромского не очень-то любят. У него лучше, чем “Гайдамаки”, лучше, чем “Тарас Бульба”:
– Я хочу построить новую Польшу на гранитном фундаменте. – Ты хочешь построить новую Польшу на земле, пропитанной русской кровью.
Польша это как человек с большим животом вперед – проглотил столько, сколько не может стравить.
В музее вы видели – хитро, чтобы поляков не дразнить: “Вид Львова, XVII век”. Там же прямо на гравюре Leopolis Metropolis Rutheniae Meridionalis – Львов столица Южной России. Ruthenia Meridionalis, Ruthenia Rubra, Червоная Русь. Галиция – от слова “гальс”, “галлос”, по-гречески – соль. Солекопни здесь великие. Тогда прямо говорили: во Львове земля русска, улицы польски, камени́цы жидовски.
Жиды, скажу вам, это мировая потуга. Они на бру́тах зарабатывали. Но надо вам знать, что среди них были благородные люди. Возьмите, Шаф! Этим не надо шутить…
Да-да-да! Это же и есть Ставропигий! В тридцать девятом году я шел на работу в девять часов утра. Видел, как приехали грузовики. В час дня я шел обратно – уже ничего не осталось. Все сожгли за городом! Вы это знаете? Вы знаете моего друга из Ужгорода? Мой брат ни за что в Сибири пропал…
Под рельефной вязью портала кто-то мелом нарисовал звезду Давида и с другой стороны – магическое USA.
1979
тайгас
– Немцы нас в лес – окопы копать. Мы копаем – они стоят. Им привезли обед – ну, мы убежали домой. Немец в дверь, я в окно. – Где такая? – Вы в лес взяли!
Один раз проснулись – нет немцев. Ушли. Второго мая. Русские пришли. Всех мужчин собрали, большая колонна – как отсюда до Ту́кума. Никто не вернулся.
Теперь хорошо живем. Раньше сам что имеет или хозяин дал. А сейчас лодку колхоз дает, мотор. Сети порвутся – сети дает.
Все равно в море никто не хочет. Бригада – три деревни, двадцать человек. Не так двадцать, потому что двенадцать – на пенсии. Рыба – одни лу́чи. Ну, салака не рыба.
Привезут на фабрику – все разделать надо, сразу, хоть ночью. Зимой, летом – ноги в воде, руки во льду, справа и слева дверь открыта.
Мужу участок дали – болото. Пусто – как тайга. Ну, мы назвали “Та́йгас”. Муж сам канавы рыл, сад посадил, дом построил. Пожить не успел. Отвезли в Энгуре. Там больница плохая. Он там упал – только утром нашли.
Потом один раз вижу, муж идет по двору. Видит меня, говорит:
– Лабдиен.
– Лабдиен.
Я думала, он в Энгуре ездил за якорем, сам немножко ходить в море, а он нет, со всей бригадой, как раньше. Я ему говорю:
– Опять меня не слушаешь? Один раз умер, хочешь еще умереть?
А он мне говорит:
– И я тебе говорил, не ходи больше на фабрику, а ты все ходишь. Тоже скоро умрешь.
Я ему:
– Что ты! Что ты! Пойдем в дом.
А он не хочет, говорит:
– Посидим тут на сене.
Там тогда сено стояло, сейчас не стоит. Я ему говорю:
– Неудобно. По дороге люди ходят.
А он говорит:
– Пускай ходят!
Он постригся так, ну, побрился, в куртке серой – такой у него не было. Я ему говорю:
– Какой кавалер стал!
А он говорит:
– Ты мне всегда говорила: не опускайся, а теперь сама опускаешься.
Тут он видит соль, ну, такая соль, как в солонке, обыкновенная, говорит:
– Дай мне хлеба.
А я помню, если мертвому хлеба дать, в доме кто-то скоро умрет.
Говорю:
– Нет у меня хлеба.
А он говорит:
– А свиньям от этого же кирпичика отрезаешь?
Я говорю:
– А тебе не отрежу. Мертвые не едят.
Он говорит:
– Я и не хочу. Только так спросил.
Тут часы зазвонили. Я хотела спросить, скоро ли умер, долго ли мучился, когда упал. Только хотела спросить, не успела.
После у меня воспаление легких, думала, что умру. Пришла из больницы домой, а соседка из белого дома говорит, что видела мужа на улице.
– Лабдиен, – говорит.
– Лабдиен.
Тут кто-то быстро на лошади по дороге проехал, она не видела кто, а муж сказал кто, и что больше лошадь ему не даст, а лучше даст ее Жанису. Он говорит:
– Ну, я пойду.
– Куда?
– Домой. Жены дома нет, скотину некому покормить.
1973
дела литовские
За фанерной перегородкой громко декламировали по-литовски и мешали мне спать после обеда.
На палангском безделии я отпустил бороду, и куафёр из Шауляя постриг ее а-ля Ильич.
– Господин цадик, я бы хотела знать вашу настоящую профессию, – окликнула меня во дворе соседка из-за перегородки.
Я сказал, что я переводчик.
– А меня саму переводят! В Каунасе профессор Печкус переводит мои стихи на английский язык. Юргис!
По лестнице тотчас спустился ее муж с пестрой дешевой книжкой наизготовку.
Венцку́нене-Повилайти́те, “Кунига́йкштене О́на”. Из длинного списка сочинений того же автора на обороте обложки я понял, что большинство из них не опубликовано.
– В Голливуде перед войной собирались ставить фильм по моей трагедии, но тут умер Вайчкус… У меня есть чудесная поэма “Янтарь” – я ее писала двадцать пять лет. Мне сказали, что рукописи можно сдать на хранение в Академию наук. Я дала им двадцать томов – все в кожаных переплетах!
Назавтра я встретил Антанаса Венцлову и спросил, кто такая Венцкунене-Повилайтите.
Флегматичный Венцлова принял позу кулачного бойца.
– Такого имяни в летовской летературе нет!
– ?..
– Она давно умярла!
– Она живет в одном доме со мной.
– Яё никогда ня пячятали!
– Я видел ее книжку…
– В буржуазное время можно было издать что угодно. Она еще скажет, что по яё сценарию ставили фильм с Гретой Гарбо! Покойник Цвирка говорил, что таких графоманок надо гнать в три шеи…
Мои литовские сверстники ничем не могли мне помочь. Зато замечательный Пятрас Юодялис, редактор авангардистского журнала литовских времен, долго хохотал, утирая слезы:
– То-то-то. Знаменитейший скандал двадцатых годов. У нее был муж, художник Кристутис – он, правда, был как Христосик. Так она от него сбежала к доктору Повилайтису. Тогда Кристутис в отделе объявлений напечатал ей проклятие. Повилайтис обругал его в другой газете. Кристутис ответил. Тогда за него принялась сама Венцкунене. Газеты покупали нарасхват. Каунас потешался, наверно, месяц. Они перешли на такие интимности, что вмешалась полиция…
Отчего же Венцлова так ополчился на вроде бы безвредную для него старуху?
Я думал, думал и вдруг нашел ответ в первых словах самого Венцловы:
– Такого имяни в летовской летературе нет.
А если бы было?
Тогда в перечне литовских писателей Венцкунене в силу алфавитных причин стояла бы непосредственно над самим Венцловой, так как сына его, поэта, зовут Томас, и он по тем же алфавитным обстоятельствам не в состоянии отгородить Антанаса от нежелательного соседства сверху.
В своем первом национальном поколении Пя́трас Юодя́лис был лучше других образован, года на три раньше созрел, добрался до авангарда.