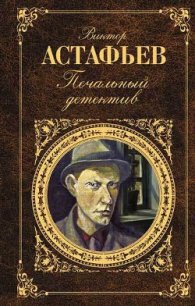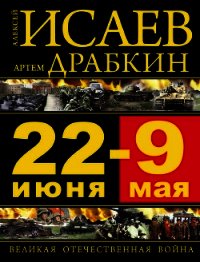Живая память. Великая Отечественная: правда о войне. В 3-х томах. Том 3. - Каменецкий Евгений
Вот и это письмо, наугад взятое из пачки, я развернул без особой надежды узнать что-то интересное — и вдруг…
В центре исписанного карандашом листа бумаги лежал крохотный букетик из двух подснежников. Будто вспышка молнии озарила мое сознание и выхватила из глубины памяти четкие кадры фронтовых будней. Поток внезапно нахлынувших воспоминаний вновь увлек меня в то далекое апрельское утро.
…Быстро наступивший рассвет разом погасил все звезды, и небосвод из бездонно-черного вдруг стал густо-голубым. Прошла еще одна бессонная ночь.
Я сижу на дне своего окопа. Ящик из-под снарядов с подстилкой из прошлогодней травы служит мне креслом, а вместо крыши — высокое небо. Зябко и сыро. Хочется, чтобы скорее поднялось солнышко.
То там, то тут раздаются выстрелы, и в небе все еще летят осветительные ракеты. Противник не спит. Постреливают и наши.
Взошло солнышко. Над речкой Зуша, что течет вдоль переднего края, по ничейной полосе задымился легкий туман. День обещал быть ясным и теплым. В небе, как серебряные колокольчики, зазвенели жаворонки. Я смотрю на эти трепетные живые комочки, висящие в безоблачном небе, и вместе с ними радуюсь приходу весны.
Пласты дерна, маскирующего бруствер моего окопа, начинают зеленеть. На одной из дернин из бурой щетины прошлогодней травы, кое-где украшенной алмазными капельками росы, прямо на меня глядят два крохотных подснежника. В центре каждого нежно-голубого цветка, будто капелька янтаря, светится желтый бугорочек. Тонкие стебельки едва наклонены, и кажется, словно для того, чтобы заглянуть мне в лицо.
Я с замиранием сердца гляжу на эту нерукотворную красоту. Вспомнился дом. Куда-то на второй план ушла война. Я представил себе, как была бы рада мама, если бы теперь вместе со мной глядела на это крохотное диво природы. Но… слишком далеко до Южного Урала, где теперь в эвакуации мои родители.
«Далеко-далече, ну а что, если, — вдруг удивляю неожиданной мыслью я сам себя, — я подарю маме эти цветы!» Быстро пишу письмо. «Я нашел эти цветы и посылаю их, чтобы доставить радость и успокоить тебя, моя милая мама…»
Сорванные подснежники уложены в бумажный треугольничек с короткой запиской для цензора: «Уважаемая военная цензура, пожалуйста, не выбрасывайте цветочки: это фронтовой подарок моей маме». Цензор выполнил мою просьбу, он не изъял «незаконное вложение». Прошло почти полвека, а маленький засохший букетик подснежников все еще будоражит мое воображение.
О солдатской чести поведал инвалид войны Евсей Ефимович ДЕСЯТНИК (Киев).
Евсей Десятник. Совесть
В сумерках наша батарея подошла к железнодорожной станции и стала окапываться. В пятом часу утра, когда позиция была готова, меня позвал наш повар Андрей Васильевич Холохоленко. Он просил разрешить ему готовить пищу не у самой позиции, а в ближайшей от нас избе, которую облюбовал у реки. Я пошел за ним в ту избу.
— Вы на стены поглядите, — с какой-то болью произнес повар.
Я глянул — и оторопел. Вместо обоев со стен смотрели на нас приклеенные друг к другу сотни розовых билетов Государственного банка Союза СССР.
— Все тридцатки. Вот гады! И придумают такое. Наверное, жил здесь какой-то начфин ихний, — заключил Холохоленко.
Я испытующе заглянул в глаза нашему повару. И решил, что именно из-за этих денег потянул он меня сюда. Были на то определенные основания. Еще в самом начале войны все на батарее сдавали в Фонд обороны свои денежные сбережения, а он не сдал. Сказал, что семья его сильно нуждается. Я ничего не сказал ему тогда. Стыдился упрекать человека, что был значительно старше меня годами, да еще и отцом двоих сыновей. Но в душе был недоволен расчетливостью ефрейтора.
Он, видимо, и теперь понял, что я не восторгаюсь находкой, однако решительно попросил разрешения снять со стен все деньги.
— Клеил, гадюка, мукой. Я их поснимаю вместе со штукатуркой…
На следующий день я спросил старшину батареи, спит ли по ночам повар.
— Мучается, — ответил тот с хитринкой. — Деньги спасает.
А у меня шевельнулась недобрая мысль, — стыдно теперь в этом признаться.
Еще через день к вечеру, уже в темень, появился на позиции сам Холохоленко. В первое мгновение я не узнал его: побрился, одел все новенькое, что так тщательно берег долгие месяцы.
— Вы можете пойти со мной? — спросил он.
Мы пошли. Я понимал, куда он зовет меня. Только вот эта торжественность во всем его внешнем облике была непонятна мне.
Мы вошли в избу. Я глянул на стены: ни одной тридцатки не было на них.
— Дело сделано, — произнес я, констатируя факт.
Он поглядел на меня с каким-то сожалением, как глядит отец на взрослого сына, которому все же не дано проникнуться пониманием отцовской души, ее боли и силы. И этот взгляд смутил меня.
— Сидайте. Хочу поговорити з вами, — вдруг произнес он на своем родном певучем языке. На столе я увидел несколько толстых пачек с деньгами.
— Тут все, — сказал он. — Я и свои добавил. Помогите мне отдать эти деньги на полное освобождение батькивщины.
Я сердечно обнял его впервые за многие тяжкие военные годы совместной службы.
О солдатской дружбе рассказывает ветеран 1-го Красноградского мехкорпуса Николай Антонович ПАСЫНОК (Белая Церковь Киевской области).
Николай Пасынок. Встреча
Рано утром 28 июля 1944 года наша 19-я мехбригада 1-го мехкорпуса вышла с боями на берег Западного Буга севернее Бреста. Радости и солдат, и офицеров не было конца. Родина освобождена от немецко-фашистских захватчиков!
А солдаты тем временем устанавливали на старое место пограничный столб с гербом нашей Родины и четырьмя буквами — «СССР». Мы обнимались, целовались, поздравляли друг друга, летели вверх солдатские пилотки, во весь голос кричали: «Ура! Родина освобождена!»
И вот в тени деревьев на зеленом ковре сидят, лежат, возбужденно разговаривают бойцы мехбата капитана Шота Гогорошвили. Только что закончилось партийное собрание. Подвели итоги боев за Брест. Отличившиеся получили государственные награды. Родина высоко оценила заслуги освободителей — бригада награждена орденом Красного Знамени. Командование объявило всему личному составу благодарность. Недавно принятым в партию вручили партбилеты.
И вдруг ликования и поздравления прервались громкой командой.
— Встать! Смирно! — скомандовал комбат Шота Гогорошвили, лихо повернулся на каблуках и побежал навстречу командиру корпуса генерал-лейтенанту Герою Советского Союза Семену Моисеевичу Кривошеину с докладом.
Генерал подошел к бойцам. Всегда суровые, черные, прикрытые широкими бровями глаза на этот раз светились веселыми искорками. Комкор был в добром настроении. Поздоровался. Поздравил. И сказал:
— Ну а сейчас садитесь на чистую травку, отдыхайте. Берегите ноги, они будут еще нужны. Родина освобождена, но фашизм не уничтожен.
— Одолеем, разобьем! — выкрикнул ветеран бригады, пожилой добродушный боец.
Генерал подошел ближе к солдату, присмотрелся.
— Одолеем, говоришь?.. Стой, стой! Да ты же Кузьма Ильич. Дорогой мой кавалерист!
Все мы были удивлены: генерал знает нашего Молокоедова, называет его по имени и отчеству.
— Я, товарищ генерал.
Молокоедов знал и до этого, что Первым Красноградским мехкорпусом командует генерал, который в гражданскую войну командовал эскадроном, а он, Молокоедов, был кавалеристом в этом же эскадроне. Но лезть в глаза как-то не посмел. Слишком большая разница в звании и должности.
По старому русскому обычаю, генерал и солдат трижды поцеловались. Обнявшись, стояли молча и смотрели друг на друга, как бы узнавая, тот ли солдат? тот ли командир? Смахивал слезу с глаз генерал, смахивал и солдат. Первым опомнился генерал:
— Полно, прочь слезу с глаз! Солдаты при встрече не должны плакать, солдаты радуются. Смотри, Кузьма Ильич, мы же стоим на границе нашего родного государства. Родина освобождена от фашистской оккупации!