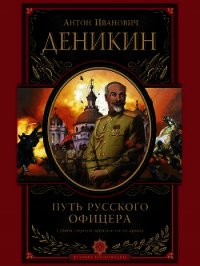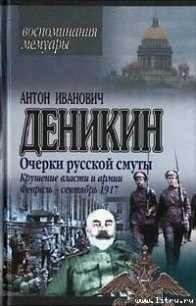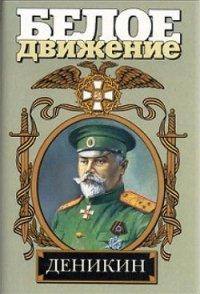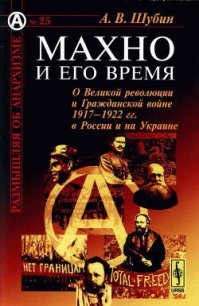Путь русского офицера - Деникин Антон Иванович (бесплатные полные книги txt) 📗
Во Влоцлавске Епифанов не ужился. Перевели, помимо желания, в Лович. В Ловиче также не пришелся ко двору. После бурного протеста против поощрявшегося начальством «доносительства», был переведен на низший оклад в Замостье, где находилась тогда не то прогимназия, не то ремесленное училище.
Дальнейшая судьба его мне неизвестна.
Меня отец не «поучал», не «наставлял». Не в его характере это было. Но все то, что отец рассказывал про себя и про людей, обнаруживало в нем такую душевную ясность, такую прямолинейную честность, такой яркий протест против всякой человеческой неправды и такое стоическое отношение ко всяким жизненным невзгодам, что все эти разговоры глубоко западали в мою душу.
Невзирая на возраст, был он здоров и крепок. Помню, шли мы с ним как-то по городу и встретили подростка лет пятнадцати, который стоял над тяжелым мешком с мукой и плакал. Снял мешок с плеч, чтобы отдохнуть, а взвалить обратно не мог. Отец поднял мешок, вымазавшись в муке, и тут же схватил… солидную грыжу. Это была первая в жизни болезнь или повреждение, если не считать раны в руку, нанесенной польским косиньером в рукопашной схватке и оставившей довольно глубокий след. Рану отец считал не серьезной и в формуляр не заносил.
Только последние годы жизни отец стал страдать болями в желудке. Лечиться не на что было, да и не привык он обращаться к врачам. Пользовался несколько лет подряд каким-то народным средством. К весне 1885 года отец не вставал уже с постели; сильные боли и непристанная икота; приглашенный врач определил — рак в желудке.
Мать не отходила от постели больного, меня на ночь выдворяли в соседнюю комнату.
Стал отец часто и спокойно говорить о своей близкой смерти, что наполняло мое сердце жгучей болью. Осталось в памяти его последнее напутствие:
— Скоро я умру. Оставляю тебя, милый, и мать твою в нужде. Но ты не печалься — Бог не оставит вас. Будь только честным человеком и береги мать, а все остальное само придет. Пожил я довольно. За все благодарю Творца. Только вот жалко, что не дождался твоих офицерских погон…
Шли дни великого поста. Отец часто молился вслух:
— Господи, пошли умереть вместе с Тобою…
В страстную пятницу я был в церкви на выносе плащаницы и пел, по обыкновению, на клиросе. Подходит ко мне знакомый мальчик и говорит:
— Иди домой, тебя мать требует.
Прибежал домой — отец уже мертв.
Исполнилось желание его — умереть в страстную пятницу. Самовнушение или милость Божия?
На третий день Пасхи отца похоронили. Хор музыкантов 1-го Стрелкового батальона играл похоронный марш; сотня пограничников проводила гроб в могилу тремя ружейными залпами; могилу засыпали землей, и мы с матерью — жалкие и несчастные в тот день, как никогда — вернулись в свой осиротевший дом.
Для могильной плиты приятель отца, ротмистр Ракицкий, составил надпись:
Со смертью отца материальное положение наше оказалось катастрофическим. Мать стала получать пенсию всего 20 руб. в месяц. Пришлось мне, хотя я и сам был тогда еще юн и не тверд в науках, репетировать двух второклассников. За два урока получал 12 руб. в месяц. Никакого влечения к педагогической деятельности я не имел, и тяготили меня эти занятия ужасно. В особенности зимой, когда рано темнело. Вернувшись из училища часа в 4 и наскоро пообедав, бежал на один урок, потом — в противоположный конец города на другой. А тут уж и ночь, да свои уроки готовить надо… Никакого досуга ни для детских игр, ни для Густава Эмара. Праздника ждал, как манны небесной.
Года два еще кое-как перебивались, наконец стало невмоготу. На «семейном совете» (мать, нянька и я) решили попытаться получить разрешение на держание ученической квартиры. Пошли с матерью к директору Левшину. Тот дал разрешение на квартиру для 8 учеников. Нормальная плата была 20 руб. с человека. Так как к тому времени повысилась сильно моя школьная репутация («пифагор»), то меня же директор назначил «старшим» по квартире.
С тех пор, если и не было у нас достатка, то кончилась та беспросветная нужда, которая висела над нами в течение стольких лет.
К этому же времени относится и резкое изменение нашего «семейного статута». Школьные успехи, некоторая серьезность характера, вызванная впечатлением от кончины отца и его предсмертного наказа — «береги мать»… и участие в добывании средств на хлеб насущный — с одной стороны. С другой — одиночество моей бедной матери, инстинктивно искавшей хоть какой-нибудь опоры, даже такой ничтожной, какую мог дать 15-летний сын… Все это незаметно создало мне положение равноправного члена семьи. Меня никогда больше не наказывали и не пилили. Мать делилась со мной своими переживаниями, иногда советовалась по вопросам нашего несложного домашнего быта.
Со времени производства моего в офицеры мать жила при мне до самой своей смерти последовавшей в Киеве, в 1916 году, когда я был на войне и командовал уже корпусом.
Выбор карьеры
В первый год моей жизни, в день какого-то семейного праздника, по старому поверью, родители мои устроили гадание: разложили на подносе крест, детскую саблю, рюмку и книжку. К чему первому дотронусь, то и предопределит мою судьбу. Принесли меня. Я тотчас же потянулся к сабле, потом поиграл рюмкой, а до прочего ни за что не захотел дотронуться.
Рассказывая мне впоследствии об этой сценке, отец смеялся:
— Ну, думаю, дело плохо: будет мой сын рубакой и пьяницей!
Гаданье и сбылось, и не сбылось. «Сабля», действительно, предрешила мою жизненную дорогу, но и от книжной премудрости я не отрекся. А пьяницей не стал, хотя спиртного вовсе не чуждаюсь. Был пьян раз в жизни — в день производства в офицеры.
Рассказы отца, детские игры (сабли, ружья, «война») — все это настраивало на определенный лад. Мальчишкой я по целым часам пропадал в гимнастическом городке 1-го Стрелкового батальона, ездил на водопой и купанье лошадей с Литовскими уланами, стрелял дробинками в тире пограничников. Ходил версты за три на стрельбище стрелковых рот, пробирался со счетчиками пробоин в укрытие перед мишенями. Пули свистели над головами — немножко страшно, но занятно очень, придавало вес в глазах мальчишек и вызывало их зависть… На обратном пути вместе со стрелками подтягивал солдатскую песню:
Словом, прижился к местной военной среде, приобретя знакомых среди офицерства и еще более приятелей среди солдат.
У солдат покупал иной раз боевые патроны — за случайно перепавший пятак или за деньги, вырученные от продажи старых тетрадок; сам разряжал патроны, а порох употреблял на стрельбу из старинного отцовского пистолета или закладывал и взрывал фугасы.
Будущая офицерская жизнь представлялась мне тогда в ореоле сплошного веселья и лихости. В нашем доме жили два корнета 5 Уланского полка. Я видал их не раз лихо скакавшими на ученье, а в квартире их всегда дым стоял коромыслом. Через открытые окна доносились веселые крики и пение. Особенно меня восхищало и… пугало, когда один из корнетов, сидя на подоконнике и спустив ноги за окно, с бокалом вина в руке, бурно приветствовал кого-либо из знакомых, проходивших по улице. «Ведь третий этаж, вдруг упадет и разобьется!..»
Через 25 лет во время японской войны мы вспоминали мое детское увлечение: бывший корнет, теперь генерал Ренненкампф — прославленный начальник Восточного отряда Маньчжурской армии, и я — его начальник штаба…
По мере перехода в высшие классы, свободного времени становилось меньше, появились другие интересы, и «воинские упражнения» мои почти прекратились. Не бросил только гимнастики и преуспевал в «военном строе», который был введен в училищную программу в 1889 году.