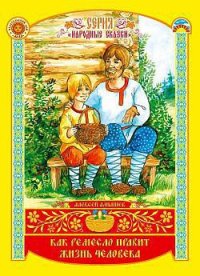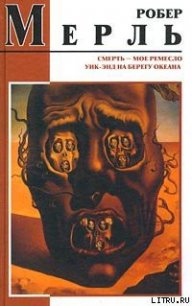Судьба и ремесло - Баталов Алексей (читаем полную версию книг бесплатно txt) 📗
— В больнице, — был ответ.
Я опешил.
— Врач со «скорой» предполагает разрыв сердца.
— Когда это случилось?
— Утром во время завтрака.
— Как же, когда я сам завтракал с ней?!!
К вечеру все подтвердилось. Это был обширнейший инфаркт. Жизнь Ахматовой повисла на волоске… Даже говорить с ней было запрещено, и врач допытывался у домашних, как это произошло: не упала ли больная и не ударилась ли как-то при этом, долгой или внезапно короткой была боль, теряла ли она сознание — и все тому подобное. Но ничего «тому подобного», типичного для такого сердечного удара не было.
Мы сидели за столом и завтракали. Надобно сказать, что под руководством Ардова завтрак в нашем доме превращался в бесконечное, нередко плавно переходящее в обед застолье. Все приходившие с утра и в первой половине дня — будь то школьные приятели братьев, студенты с моего курса, артисты, пришедшие к Виктору Ефимовичу по делам, мамины ученики или гости Анны Андреевны — все прежде всего приглашались за общий стол и, выпив за компанию чаю или «кофию», как говорила Ахматова, невольно попадали в круг новостей и разговоров самых неожиданных. А чашки и какая-то нехитрая еда, между делом сменяющаяся на столе, были не более чем поводом для собрания, вроде как в горьковских пьесах, где то и дело по воле автора нужные действующие лица сходятся за чаепитием.
В этом круговороте постоянными фигурами были только Ахматова и Ардов. Он спиной к окну в кресле, она — рядом, в углу дивана. Оба седые, красиво старые люди, они много лет провожали нас, напутствуя и дружески кивая со своих мест, в институты, на репетиции, в поездки, на свидания, а в общем-то в жизнь.
В то утро все шло обычным порядком, только я выпадал первым и, поскольку нужно было уходить, старался по-настоящему съесть бутерброд и успеть выпить чаю. Дождавшись окончания очередной новости, которую принес кто-то из сидящих за столом, Анна Андреевна не спеша поднялась.
— Я на минуту вас покину, — сказала она. Взяла, как обычно, лежащую на диване сумочку, с которой никогда не расставалась, и направилась к двери.
— Анна Андреевна, я уже должен сейчас уходить, вы просили… — начал было я.
Ахматова повернулась, опираясь на полуоткрытую дверь.
— Бога ради, не думайте об этом, Алеша. Мы все решим вечером, — сказала она примирительно и, не торопясь, спокойно вышла из комнаты.
Я ушел. Через некоторое время, заварив очередную порцию свежего чая, мама заглянула в каморку Анны Андреевны. Ахматова лежала неподвижно, сумка была аккуратно поставлена на стул, туда, где стояла обычно, и только смертельная бледность лица заставила маму войти в комнату.
Врач не верил этому рассказу. Тогда он еще не знал Анну Андреевну, вернее, эта грузная старуха еще не соединялась в его воображении с тем поэтом, который несколькими годами раньше написал, обращаясь к страдающим в осаде людям:
Мужество не покидало Анну Андреевну никогда, и полагаю, что это вполне естественно, поскольку мужество — качество, отличающее людей высшего порядка и по иронии судьбы стоящее на противоположном конце от тех мышечно-звериных признаков, которыми природа наделяет сильный пол. Человеческое мужество представляет собой силу, почти всегда направленную внутрь себя, в то время как звериное — чаще напоказ, в сторону окружающих, главным образом более слабых. Мужество движет глухим Бетховеном, слепым Дега, закованным в цепи Сервантесом, стоящим с веревкой на шее Рылеевым и предполагает борьбу человека и его победу над силами сверхъестественными, не одолимыми ничем, кроме мужества. Однако это совсем не значит, что мужество не проявляется или не украшает людей в самых мирных обстоятельствах, что оно менее привлекательно в добрые и светлые минуты жизни. Нет, именно всегда, если человек действительно обладает им, оно вызывает уважение и освещает его поступки.
Есть множество примеров того, как ранимы так называемые творческие натуры, как болезненно они относятся ко всякому неловкому прикосновению постороннего к их творению. И это вполне понятно, поскольку настоящее удается и обретает форму художественного произведения очень редко, а еще реже признается таковым современниками. А потому видеть, оценивать себя и свои творения со стороны, не цепляясь за прошлое, за обстоятельства и законы, в которых эти творения родились, — удел очень немногих и тоже только обладающих мужеством людей.
Анна Андреевна позволяла себе иронизировать по поводу собственных знаменитейших стихов. И это ничуть не противоречило ее внешней царственности, не нарушало ее внутренней поэтической гармонии. Напротив, только дополняло и обогащало ее образ, сообщая ему то четвертое измерение, по которому Мандельштам отличал поэзию от рифмованных строк.
Помню, как однажды, когда «завтраканье» уже перевалило за полдень, в комнате появилась скромная, совсем еще юная поклонница Ахматовой. Оторопев от развязности и сумбурности разговора, который шел в присутствии ее кумира, она после долгого молчания почтительно и скромно попросила Анну Андреевну надписать ей книгу, которую, как святыню, держала в руках. Глубокая искренность и невероятное волнение, прозвучавшие в голосе этой девушки точно пристыдили сидящих за столом; все как-то почтительно подтянулись, будто разом вспомнили чин, звание, возраст и значение Ахматовой, а еще вернее сказать, приняли на себя те роли, которые должны бы играть в присутствии Ахматовой, по разумению этой поклонницы.
Анна Андреевна извинилась и, забрав свою сумочку, пригласила гостью в каморку… Они удалились, разговор за столом быстро восстановился, но все-таки теперь шел в несколько приглушенных тонах, поскольку никому не хотелось подводить Анну Андреевну в глазах непорочной представительницы читающей публики. Через некоторое время Ахматова в сопровождении раскрасневшейся и еще более взволнованной поклонницы вернулась в столовую и, предложив ей чашку чая, заняла свое место. Девушка молча глотала кипяток, и даже спокойные слова Анны Андреевны никак не снимали ее напряжения.
Всякий не совсем бессердечный человек, попав в круг такой сцены, невольно покажется себе чуточку развязным — уж слишком явственно все существо этой случайной посетительницы отражало истинное значение Ахматовой. Поэтому, когда, не проронив ни слова, девушка, ко всеобщему облегчению, благополучно проглотила последнюю каплю чая и, молча поклонившись, ушла, никто из оставшихся за столом как-то не решался первым возобновить разговор. Образовалась пауза, в которой все как бы впервые, наново устраивались, рассаживались вокруг Анны Андреевны. А она, ни на кого не глядя, точно не замечая этого замешательства, занималась своей чашкой. Вдруг, так и не отрываясь от чая, а только высоко, чисто по-ахматовски подняв брови, она подчеркнуто драматично продекламировала, медленно роняя слова:
и подняла лукаво смеющиеся глаза. Вся напряженная, тяжелая холодность минуты треснула, как лед, и живая веселая вода вырвалась на простор. С того дня всех поклонниц Анны Андреевны мы делили по ее стихам и соответственно им легко и весело соблюдали ритуал свидания поэта и читателя.
Но самое безжалостное, публичное издевательство над стихами Анны Андреевны устраивалось в виде представления. Гости, которых Ахматова развлекала таким образом, особенно преданные почитатели, каменели и озирались, точно оказавшись вдруг в дурном сне. Теперь я могу засвидетельствовать, что вся режиссура и подготовка этого домашнего развлечения принадлежат самой Анне Андреевне. Хотя, конечно, тут есть и своя предыстория.
Когда, вернувшись в Москву, на эстраде вновь появился Вертинский, кажется, не было человека, который избежал бы увлечения этим артистом. Его грустноватые иронические песни и безупречно отточенная манера исполнения были настолько непохожи на все, чем в те годы славились наши концертные программы, что публика принимала каждый номер как маленький неповторимый спектакль. И если для старшего поколения он был еще сколько-то знаком по первым выступлениям в маске Пьеро, то для нас, молодых, его явление казалось абсолютным откровением. Не понимая доброй половины французских слов и названий, фигурировавших в тексте его сочинений, мы распевали Вертинского, стараясь придать своим физиономиям бесстрастно-утомленный вид все переживших господ.