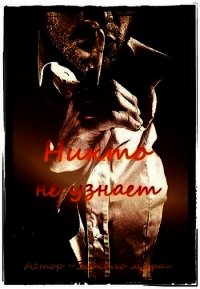Возвышающий обман - Кончаловский Андрей Сергеевич (читать книги онлайн полностью без сокращений txt) 📗
Поскольку Чиркунов—Егорычев играл на гитаре и к тому же мне нравился его хриплый голос, я, в продолжение сцены, велел ему садиться и петь «Бьется в тесной печурке огонь». Этого тоже бы не было, если бы он не умел петь. И не будь у него на груди татуировки с Лениным и Сталиным, я бы никогда не придумал сцену, где маленький мальчик смотрит на татуировку, показывает на Сталина, спрашивает: «А это кто?» Мальчик родился уже во времена, когда можно было и не знать, кто такой Сталин.
Танки тоже возникли потому, что танкодром был рядом – в сценарии никаких танков не было. Какое счастье было поддаваться жизни со всем великим богатством ее подробностей!
Сцена в баньке, когда Чиркунов пристает к Асе. Сцена с сундуком. Когда на каком-то чердаке я увидел этот сундук, этот интерьер, этот манекен – атрибуты сюрреализма с картин Макса Эрнста или Рене Магритта, сразу стала понятна атмосфера сцены.
Кое-что на натуре в «Асе» я снять не успел. Поэтому пришлось переписывать какие-то куски сценария. Надо было связать в один узел сцены, потерявшие из-за неснятого единство развития. Я вызвал Клепикова. Мы написали сцену в вагончике, где Степан говорит Асе: «Вот ты у меня где!» И когда Чиркунов уговаривает: «Выходи за меня!», она отвечает: «Не люблю я вас. Извините, ради Бога». Она уходит... Эта центральная узловая сцена связала картину, драматургически мотивировала, что привело Асю к идее самоубийства. В первоначальном сценарии она решала вешаться... В фильме вместо этого запирается в сундук. Тот самый, который я нашел на чердаке.
Все переделки сценария производились прямо по ходу съемок: начав снимать, я понял, что не сделаю картину, если оставлю все, как было написано. А сценарий-то был хорошим! Я и сейчас задумываюсь: стоило ли его менять? Отличный бы фильм получился. Хотя совсем иной, чем я сделал.
Поскольку картина рождалась в свободном полете, такое она и обрела дыхание – свободное, раскованное; она получилась легкой по языку, деструктурированной, без явно выраженной драматургии. И конец с цыганами тоже появился не из сценария. Просто неподалеку на Волге была цыганская деревня, и я придумал праздник в конце. К нему я очень тщательно вел развитие фильма.
Могу сказать, откуда этот праздник у меня появился – из Феллини, из «8 1/2». Подобный карнавальный финал, где смех сквозь слезы и слезы сквозь улыбку, великий музыкальный выход, я использовал дважды. Второй раз – в «Сибириаде». Там, в финале, на горящем кладбище, опять возникает праздник: из разных времен приходят герои – поцелуи, смех сквозь слезы, просветление, сменяющее отчаяние, катарсис. Это от Феллини, от него, от гения непревзойденного. Но поскольку я не крал у него форму, а лишь черпал вдохновение, музыку души, то мысль о плагиате никому не приходила в голову. Но именно Феллини со своим феноменальным прозрением, с этим выплеском карнавала дал толчок рождению двух этих финалов. Оба они решены очень динамично, в них все движется – бегут куда-то люди, танцуют, кого-то тащат, сбрасывают куда-то вниз, в овраг сарайчик... А в «Сибириаде» – восставшие из могил мертвые, трактора, огонь... Очень русский праздник. Вдохновленный итальянским гением.
Я очень тщательно готовился к финалу «Аси». По наитию его снимать было нельзя. Все надо было продумать.
Обманывать тоже надо уметь. Я учился этому у великих. Великий возвышающий обманщик Куросава! И он, и Бюнюэль, и Феллини, и Бергман, мои кумиры – все великие возвышающие обманщики! Они великие именно потому, что создают свою реальность, очень непохожую на жизнь. Но эта придуманная реальность волнует. Заставляет смеяться и плакать. Ибо в этой театральности – жизнь духа, абсолютная убеждающая правда. Конечно же, великий обман искусства должен быть возвышающим.
По каждой картине я могу проследить, что и у кого «заимствовал», можете считать, крал. Или, если хотите, – кто меня вдохновлял. И до сих пор вдохновляет. Когда что-то не получается, снимаю с полки наугад любую картину Куросавы, проматываю на видике где-то до середины и смотрю. С первой секунды – ощущение правды. И почти сразу приходит решение, как снимать.
Вот так же – он сам пишет об этом – Бергман открывает наобум Чехова. Не утверждаю, что он внимательно его читает и перечитывает. Просто открывает на первой попавшейся странице. Что у него берет? Камертон. А с ним и понимание, как делать свой фильм.
Главное, что заимствуешь у великих, – их смелость. Когда чего-то не знаешь, заходишь в тупик, робеешь. А великие словно говорят: «Не бойся, мальчик! Лети! Не упадешь!»
«Ася Клячина» внешне, по стилистике навеяна, скорее, французской «новой волной», но по духу, по мироощущению картина феллиниевская. Все, кто на экране, – немножко монстры. Героиня – беременная хромая святая, горбун-председатель, беспалый бригадир, рассказывающий о своей жизни. К этому прикладывался еще и Бюнюэль – правда, следов этого влияния в картине не осталось: все шедшее от него пришлось вырезать. Встающего из гроба старика, парящую над кроватью женщину, увиденную в «Лос Ольвидадос» и потом перекочевавшую к Тарковскому, все, что делалось из желания сюрреалистической сказки. Желания не осуществившегося.
На сдаче картины в Главке подошел Ермаш в мятом сером цековском пиджаке, он тогда заведовал сектором кино в ЦК КПСС. Обнял, поздравил, говорил, насколько это добрее, светлее, чем «Первый учитель». Казалось, счастье не за горами. Через три недели грянул гром: картину запретили. Да еще с каким треском!
До того как стать председателем Госкино СССР, Романов был главным редактором газеты «Горьковская правда», в Москву его перевели из Горького. Он был маленький, толстенький – вполне заурядный партийный функционер, с бабьим лицом. Работа у тех, кто сидел в его кресле и до него, и после, была незавидной – все время надо было лгать, выкручиваться, выполняя нелепейшие поправки членов Политбюро, удостоивших своего просмотра тот или иной фильм. Как известно, было две области, в которых понимали все, – кино и сельское хозяйство.
В марте 1967 года я по глупости повез картину в Кстово – показать ее участникам съемок. Секретарем Горьковского обкома в это время был Катушев.
Картину посмотрели в обкоме – без моего ведома, естественно. Просто забрали из аппаратной кстовского киномеханика. В атмосфере чувствовалось что-то настораживающее. Был обед в обкоме – с красной икрой. Присутствовали я и папа: предчувствуя грядущие напасти, Сергей Владимирович приехал на мою горьковскую премьеру. Разговор был сухой, через губу: картина явно не понравилась. Я еще не понимал, что судьба ее уже решена.
По меркам партийной иерархии, секретарь обкома – невелика птица: и с функционерами покрупнее Москва могла вполне не посчитаться. Почему мнение Катушева оказалось вдруг таким важным? Объяснение пришло много лет спустя.
В Чехословакии начиналась Пражская весна. Она дошла до своей кульминации в мае 1968-го, а в августе по Праге уже катили наши танки. Предшествовавшие попытки образумить чехов, захотевших «социализма с человеческим лицом», результата не дали. Лидером Пражской весны, происходивших в Чехословакии революционных преобразований был Александр Дубчек. А Катушев был другом Дубчека, они вместе учились в ВПШ (Высшей партийной школе), у них были общие пьянки-гулянки, посиделки, девочки. Катушева было решено послать к Дубчеку, на переговоры: казалось, он один может его по-дружески образумить. Но ранг секретаря обкома не тянул на уровень переговоров с партийным лидером государства, поэтому Катушева срочно сделали секретарем ЦК. Он приобрел могучий государственный вес.
Всего этого я не знал. И мысли не было, что движение глобальных политических сил может быть каким-то образом связано с моей скромной картинкой. Семичастный, тогдашний председатель КГБ, сказал:
– «Асю Клячину» мог сделать только агент ЦРУ.
Начались бесконечные поправки. Почему у героини на причинном месте фартук измазан? Почему это вам обязательно надо было туалет показать? Туалет как туалет, обычный деревенский «скворечник». Почему все герои уроды? Один горбатый, другой беспалый, героиня хромая? Неужели в советской действительности нет красивых людей? Подобные вопросы вызывали отчаяние беспомощности.