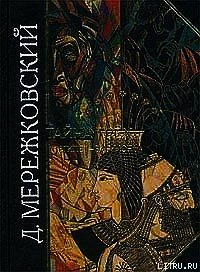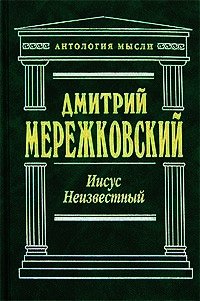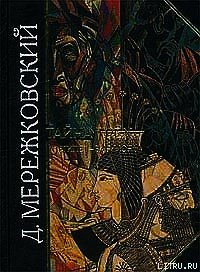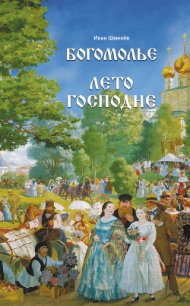Религия - Мережковский Дмитрий Сергеевич (книги онлайн читать бесплатно .TXT) 📗
— Отчего ризы Твои красны? — Оттого, что Я топтал народы, и кровь их брызгала и запятнала ризы Мои.
Невидимая рука водила им, — говорит Л. Толстой о Наполеоне. — Распорядитель, окончив драму и раздев актера, показал его нам.
Смотрите, чему вы верили! Вот он! Видите ли вы теперь, что не он, а Я двигал вас?
Двигал вас, топтал вас. Вот он — не герой, не бог, а такая же «дрожащая тварь», такое же насекомое, как и вы все. Видите ли вы теперь, что не он, а Я стравил вас?
Это уже не пылающая «ревность», а какое-то холодное злорадство.
«— И неужели, неужели вам не представляется ничего утешительнее и справедливее этого!
— Справедливее? А почем знать, может быть, это и есть справедливое, и, знаете, я бы так непременно нарочно сделал». — «Холодом охватывает» нас при этом «безобразном ответе» Свидригайлова или дяди Ерошки. И опять, опять мерещится лицо Того, Кто смотрит сверху на поле сражения, на кровавую жатву народов, бледное лицо маленького амстердамского жида, который, глядя на «стравленных пауков», на то, как «один гад съедает другую гадину», испытывает такое удовольствие, что разражается громким смехом. Как сказать такому Богу: «Отец мой небесный»?
Это не Отец, не «Он», а «Оно», что-то нечеловеческое, ужасное. «Кто-то повел меня за руку со свечкой в руках и показал мне огромного и отвратительного тарантула». В бреду князя Андрея, за дверью, которая отпирается и которую с сверхъестественными усилиями старается он удержать, «стоит это оно и, надавливая с другой стороны двери, ломится в нее». И когда «вид выросшего на меже высокого чернобыльника, который торчал из-под снега и отчаянно мотался под напором гнувшего его все в одну сторону и свистевшего в нем» ветра, почему-то заставил содрогнуться полузамерзшего купца Брехунова, — ему тоже, конечно, почудилось это «оно», это безликое, что шевелится там где-то на дне первозданного хаоса, протягивая к нам оттуда свои отвратительные и холодные, шершавые паучьи лапы. И когда Иван Ильич «плачет о беспомощности своей, о своем ужасном одиночестве, о жестокости людей, о жестокости Бога: „Зачем Ты все это сделал? За что, за что так ужасно мучаешь меня?“» — когда он «барахтается в том черном мешке, в который просовывает его невидимая, непреодолимая сила», и бьется, как бьется в руках палача приговоренный к смерти, — опять мерещится это Оно, этот Паук, который высасывает бьющуюся муху.
Но неужели это наш Бог? Неужели это вообще Бог?
Христианство в нас во всех, даже в самых неверующих, до такой степени глубоко, хотя и бессознательно, до такой степени эта детская молитва: «Отче наш» — неискоренима из наших сердец, даже самых бунтующих, что мы и представить себе не можем, что подобное отношение к Богу, которое кажется нам теперь, после христианства, не только не религией, а величайшим отрицанием религии, безобразнейшим кощунством; что подобное отношение к Богу, когда-то, именно до христианства, действительно было сущностью всех религий.
Мы не можем себе этого представить; а между тем оно именно так — от Зевса до Озириса, от Молоха до Иеговы — всюду, где —
оно так. Чтобы в этом убедиться, стоит лишь приподнять с Ветхого завета наброшенный нами новозаветный покров и вглядеться пристальнее. Как последние крайние выводы из отношения к такому Богу, возможны только два религиозные чувства: или титанический ропот скованного Прометея:
ропот Иова:
«Вот я кричу: обида! И никто не слушает; вопию — и нет суда»; или тихая, но, может быть, еще более, чем этот ропот, ужасная покорность:
«Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял — да будет имя Господне благословенно».
Покорность, звучащая и в той страшной песне Парок о гибели Тантала, которую вспоминает Ифигения:
Это языческое и ветхозаветное, до-христианское побеждено ли окончательно в самом христианстве? В христианстве — «Бог есть любовь»; «совершенная любовь изгоняет страх»; но ведь вот все-таки и после Христа «страшно впасть в руки Бога живого». И после Христа Бог не только любовь, но и ужас. А ведь именно для того, чтобы не было «страшно», чтобы окончательно победить этот ветхозаветный ужас Бога, и пролиты были капли кровавого пота в молитве на вержении камня: «Отче! да идет чаша сия мимо Меня, впрочем, не Моя, но Твоя да будет воля». После этой молитвы, после того, как воля Отца совершилась, — что значит этот крик Сына, крик как будто последнего ужаса и одиночества: «Боже Мой! Боже Мой! Зачем Ты оставил Меня?» Да, если бы Христос не воскрес, то эти последние сказанные Им на земле слова: «Ты оставил Меня» — действительно перевесили бы, уничтожили бы все остальные слова Его, всю «благую весть». Если бы Христос не воскрес, то воистину вся вера наша была бы тщетною. Но как могли мы поверить, что это «мертвое тело» воскреснет? Вот с этим-то ужасом и боремся мы все еще до кровавого пота, непрестанно творя чудо Воскресения в сердце нашем, по Его же слову, в котором и заключается вся тайна этого чуда: «блаженны не видевшие и уверовавшие» (Иоанна XX, 29). Мы не видим, но верим, мы не хотим видеть, чтобы верить; мы хотим верить, чтобы видеть. И скорее небо и земля прейдут, а слова Его не прейдут: если будем верить до конца, то в конце, во втором Пришествии, и увидим то, во что верим — чудо Воскресения. К этому-то второму Пришествию, второму и окончательному явлению Воскресшей Плоти от явления первого и устремляется ныне вся наша вера, «вера в сказанное сердцем»: Христос воскрес, воистину воскрес.
Верую, и, однако, — «помоги неверию моему». Люблю Бога, и, однако, древний ужас Бога все-таки снова и снова пробуждается в сердце моем: ужас этот в покаянном вопле десяти веков —
в видении Страшного Суда: «Идите от Меня, проклятые, в огонь и муку вечную».
Как будто лик Того, у Кого ризы красны от крови, все еще выступает порой из-под Отчего и даже из-под Сыновнего Лика; последнее явление этого Бога (не Отец наш, а Враг наш, который на небесах) предсказано перед кончиною мира, в явлении того Зверя, которому поклонятся все, как единому Богу: «кто подобен зверю сему и кто может сразиться с ним? — он дал нам огонь с неба».