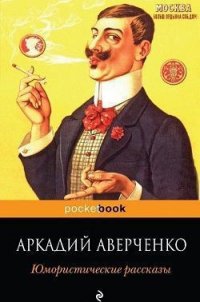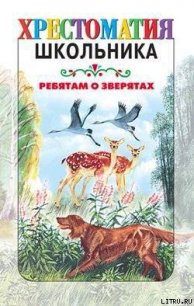Тропа к Чехову - Громов Михаил Петрович (читаем книги онлайн бесплатно без регистрации .txt) 📗
Подумал и, наморщив лоб, прибавил:
– Точно нищие калеки во время крестного хода.
Он был врач, а болезнь врача всегда тяжелее болезни его пациентов; пациенты только чувствуют, а врач еще и знает кое-что о том, как разрушается его организм. Это один из тех случаев, когда знание можно считать приближающим смерть…
О Толстом он говорил всегда с какой-то особенной, едва уловимой, нежной и смущенной улыбочкой в глазах, говорил, понижая голос, как о чем-то призрачном, таинственном, что требует слов осторожных, мягких.
Неоднократно жаловался, что около Толстого нет Эккермана, человека, который бы тщательно записывал острые, неожиданные и часто противоречивые мысли старого мудреца.
– Вот бы вы занялись этим, – убеждал он Сулержицкого, – Толстой так любит вас, так много и хорошо говорит с вами.
О Сулере Чехов сказал мне:
– Это – мудрый ребенок…
Очень хорошо сказал.
Как-то при мне Толстой восхищался рассказом Чехова, кажется – «Душечкой». Он говорил:
– Это – как бы кружево, сплетенное целомудренной девушкой; были в старину такие девушки-кружевницы, «вековуши», они всю жизнь свою, все мечты о счастье влагали в узор. Мечтали узорами о самом милом, всю неясную, чистую любовь свою вплетали в кружево.
Толстой говорил очень волнуясь, со слезами на глазах.
А у Чехова в этот день была повышенная температура, он сидел с красными пятнами на щеках и, наклоня голову, тщательно протирал пенсне. Долго молчал, наконец, вздохнув, сказал тихо и смущенно:
– Там – опечатки…
О Чехове можно написать много, но необходимо писать о нем очень мелко и четко, чего я не умею. Хорошо бы написать о нем так, как он сам написал «Степь», рассказ ароматный, легкий и такой, по-русски, задумчиво-грустный. Рассказ – для себя.
Хорошо вспомнить о таком человеке, тотчас в жизнь твою возвращается бодрость, снова входит в нее ясный смысл.
Человек – ось мира.
А – скажут – пороки, а недостатки его?
Все мы голодны любовью к человеку, а при голоде и плохо выпеченный хлеб – сладко питает (М. Горький и А. Чехов. С. 126–130, 133–139, 140–141, 142–144).
И. А. Бунин
Он работал почти двадцать пять лет, и сколько плоских и грубых упреков выслушал он за это время!
– Да, Антон Павлович, вот скоро и юбилей ваш будем праздновать.
– Знаю-с я эти юбилеи. Бранят человека двадцать пять лет на все корки, а потом дарят гусиное перо из алюминия и целый день несут над ним, со слезами и поцелуями, восторженную ахинею!..
– Читали, Антон Павлович? – скажешь ему, увидав где-нибудь статью о нем.
А он только покосится поверх пенсне и, вытянув лицо, ответит своим грудным басом:
– Покорно вас благодарю! Напишут о ком-нибудь тысячу строк, а внизу прибавят: «А то вот еще есть писатель Чехов: нытик…» А какой я нытик! Какой я «хмурый человек», какая я «холодная кровь», как называют меня критики? Какой я «пессимист»? Ведь из моих вещей самый любимый мой рассказ – «Студент»… И слово-то противное: «пессимист»…
И порою прибавит:
– Когда вас, милостивый государь, где-нибудь бранят, вы почаще вспоминайте нас, грешных: нас, как в бурсе, критики драли за малейшую провинность. Мне один критик пророчил, что я умру под забором: я представлялся ему молодым человеком, выгнанным из гимназии за пьянство…
Помню одну ночь ранней весной. Было уже поздно; вдруг меня зовут к телефону. Подхожу и слышу бас Чехова:
– Милсдарь, возьмите хорошего извозчика и заезжайте за мной. Поедемте кататься.
– Кататься? Ночью? – удивился я. – Что с вами, Антон Павлович?
– Влюблен.
– Это хорошо, но уже десятый час… И потом – вы можете простудиться…
– Молодой человек, не рассуждть-с!
Через десять минут я был уже в Аутке. В доме, где зимой Чехов жил только с матерью, была, как всегда, мертвая тишина и темнота… тускло горели две свечечки в кабинете, теряясь в полумраке. И, как всегда, у меня сжалось сердце при виде этого тихого кабинета, где для Чехова протекло столько одиноких зимних вечеров…
– Какая ночь! – сказал он с необычной даже для него мягкостью и какой-то грустной радостью, встречая меня на пороге кабинета. – А дома – такая скука! Только и радости, что затрещит телефон, да Софья Павловна спросит, что я делаю, а я отвечу: мышей ловлю. Поедемте в Орианду. Простужусь – наплевать!
Ночь была теплая, тихая, с ясным месяцем, с легкими белыми облаками… Экипаж мягко катился по белому шоссе, мы молчали, глядя на блестящую тусклым золотом равнину моря. А потом пошел лес с легкими узорами теней… зачернели толпы кипарисов, возносившихся к лучистым звездам. И когда мы оставили экипаж и тихо пошли под ними, мимо голубовато-бледных в лунном свете развалин дворца, Чехов внезапно сказал мне:
– Знаете, сколько лет еще будут читать меня? Семь.
– Почему семь? – спросил я.
– Ну, семь с половиной…
– Вы грустны сегодня, Антон Павлович, – сказал я, глядя на его простое, доброе и прекрасное лицо, слегка бледное от лунного света.
Опустив глаза, он задумчиво копал концом палки мелкие камешки, но когда я сказал, что он грустен, он шутливо покосился на меня.
– Это вы грустны, – ответил он. – И грустны оттого, что потратились на извозчика. – А потом серьезно прибавил: – Читать же меня будут все-таки только семь лет, а жить мне осталось и того меньше: шесть. Не говорите только об этом одесским репортерам…
На этот раз он ошибся: он прожил меньше…
Точен и скуп на слова был он даже в обыденной жизни. Словом он чрезвычайно дорожил, слово высокопарное, фальшивое, книжное действовало на него резко; сам он говорил прекрасно – всегда по-своему, ясно, правильно. Писателя в его речи не чувствовалось, сравнения, эпитеты он употреблял редко, а если и употреблял, то чаще всего обыденные и никогда не щеголял ими, никогда нe наслаждался своим удачно сказанным словом…
Может быть, в силу этой ненависти к «высоким» словам, к так называемым поэтическим красотам, к неосторожному обращению со словом, свойственному многим стихотворцам, а теперешним в особенности, так редко удовлетворялся он стихами. Как восторженно говорил о лермонтовском «Парусе»!
– Это стоит всего Брюсова и Урениуса со всеми их потрохами, – сказал он однажды.
– Какого Урениуса? – спросил я.
– А разве нет такого поэта?
– Нет.
– Ну, Упрудиуса, – сказал он серьезно…
Со всеми он был одинаков, какого бы ранга человек не был…
Он любил повторять, что если человек не работает, не живет постоянно в художественной атмосфере, то, будь он хоть Соломон премудрый, все будет чувствовать себя пустым, бездарным.
Иногда вынимал из стола свою записную книжку и, подняв лицо и блестя стеклами пенсне, мотал ею в воздухе:
– Ровно сто сюжетов! Да-а, милсдарь! Не вам, молодым, чета! Работники! Хотите, парочку продам?..
Иногда он разрешал себе вечерние прогулки. Раз возвращаемся с такой прогулки уже поздно. Он очень устал, идет через силу – за последние дни много смочил платков кровью, – молчит, прикрывает глаза. Проходим мимо балкона, за парусиной которого свет и силуэты женщин. И вдруг он открывает глаза и очень громко говорит:
– А слыхали? Какой ужас! Бунина убили! В Аутке, у одной татарки!
Я останавливаюсь от изумления, а он быстро шепчет:
– Молчите! Завтра вся Ялта будет говорить об убийстве Бунина (Бунин И. А. Указ. соч. С. 161–162, 164–166, 172, 192, 196, 205–206).
А. И. Куприн
А. П. не любил и немного сердился, когда ему говорили, что его дача слишком мало защищена от пыли, летящей сверху, с аутского шоссе, и что сад плохо снабжен водою. Не любя вообще Крыма, а в особенности Ялты, он с особенной, ревнивой любовью относился к своему саду. Многие видели, как он иногда по утрам, сидя на корточках, заботливо обмазывал серой стволы роз или выдергивал сорные травы из клумб. А какое бывало торжество, когда среди летней засухи наконец шел дождь, наполнявший водою запасные глиняные цистерны!