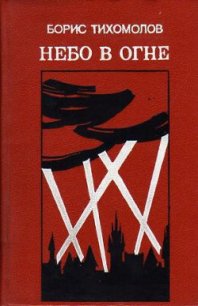На дне блокады и войны - Михайлов Борис Борисович (книга жизни txt) 📗
Бои с окруженной в Неготине группировкой кончались, и немцы, огрызаясь арьергардными боями, уходили из Восточно-Сербских гор.
Мы шли не торопясь, каждый час делая привал. Сухой паек, полученный на дорогу, был съеден еще в Болгарии, и нам предстояло переходить на «подножный корм». Партизанам к этому не привыкать. Остальные тоже не голодали.
В сербских поселениях (деревнях, хуторах) оставались, в основном, женщины. А какая женщина не испугается и не отдаст последнее появившемуся в воротах с карабином в руках «хану Мамаю»? Правда, начальство предусмотрительно не выдало нам в дорогу ни одного патрона, но когда на тебя направлено дуло карабина, разве думаешь, заряжен ли он?
В общем, никто не голодал, и ракия была…
Итак, мы догоняем наш полк…
К вечеру партизаны, нацмены, да и мы приустали от множества впечатлений. То ли солнце быстро провалилось «в дыру», то ли мы зашли в очередное ущелье.
Привал!
Кругом мрачные и почему-то черные безлюдные горы. Ни души. Солдатские карабины без патронов. Только у нас с Григорием по автомату и одному рожку на брата. А если немцы? Где мы? Место вроде то, и не то… Сербы говорили про монастырь, а его нет… Дорога раздваивается. Надо останавливаться. Неровен час — напоремся на немцев…
Я беру трех солдат, и мы уходим разведать, что делается вокруг. Подымаемся в гору, потом опять вниз… Темнеет совсем. Уже видны первые звезды. И как всегда случается, стоило только окончательно заблудиться, вдруг на фоне черного безлунного неба прямо над нами появился резкий силуэт средневекового замка с огромными коваными воротами. Полное безмолвие. Будто декорация в пустом театре при потушенном свете. Но все настоящее. Мне не по себе — жутковато. Но партизаны попались, видать, не из робкого десятка. Мы подходим. Ворота на запоре. Солдат бьет прикладом:
— Гэй! Відчиняй!
Удары гулко отражаются от скал, от черных проемов окон и, много раз повторившись, затихают. Молчание.
— Наверное, надо вернуться за нашими?
Но меня не слушают. Партизаны что-то говорят между собой. Потом один уходит назад, (как я понимаю, к нашим), а оставшиеся двое, поддерживая друг друга, ловко лезут на ворота и исчезают в темноте двора. Через минуту один возвращается:
— Лейтенант, дай автомат.
Я отдаю и остаюсь один на один с пустым карабином и горами… Я никогда в жизни не был в ночных горах. Каменным хаосом они нависают надо мной. Каждая глыба кажется застывшим заколдованным истуканом, таящим смерть. Все мертво, и живой я один… Вдруг в глубине двора выстрел!
— Ведь у них только автомат! — мелькнуло в голове, и вслед за этим— резкая автоматная очередь, женские крикливые причитания, визг и снова мертвая тишина… А мне что делать? Лезть через решетку под пули? Может быть, наши напоролись на засаду? Я, ничего не придумав, нерешительно стучу в ворота и сразу же прячусь за выступ скалы. С той стороны к воротам приближаются голоса: женские, мужские.
— Шнель, шнель!
В замке скрипит ключ. Надо бежать, но в проеме ворот появляется партизан с моим автоматом. Рядом с ним две сморщенные сгорбленные монашенки — точь-в-точь те, которых рисуют на картинах о средневековой инквизиции. Я выхожу из укрытия. Монахини быстро и крикливо лопочут. Похоже, что партизаны их понимают. Мы идем. Я и сейчас, через пятьдесят с лишним лет, свободно проделаю тот путь: чуть вперед и направо торцом стоит двухэтажный барачного типа дом. Наружная лестница ведет прямо на второй этаж. Узкая дверь. Я захожу первым. На меня выскакивает еще более древняя старушка со свечкой и с маньячной решимостью загораживает дорогу. Из-за моего плеча появляется солдат с автоматом, грубо отталкивает старуху, и мы втроем входим в комнату. На визг упавшей старухи из глубины дома сбегаются монахини с вонючими сальными свечками в руках:
— Где немцы?
— Нэма немочка! Нэма немочка! — и дальше длинные тирады, из которых я понимаю, что здесь женский монастырь и какое-то училище. Солдат открывает стол. Один ящик, другой… в ящиках бумаги. Монахиня настроена агрессивно. Она вырывает у него из рук бумаги, деньги, тащит солдата в сторону… Я перехожу в другую комнату. За мной бегут монашенки, загораживают путь дальше. Явно они растеряны и нас не ждали. В комнате стоит бюро. Я наугад открываю ящик… В сальном свете свечи тускло мелькнула вороненая сталь голого ствола парабеллума:
— Где немцы?.. вашу мать!
Главная монахиня падает на колени, и, подымая вверх руки, ползет в мою сторону. Я отщелкиваю магазин — шесть патронов.
За дверью около ворот слышится шум— появляется наша «сотня». Я вижу Григория. Он быстро входит в курс дела. Монахини ведут нас к управляющему — «профессору».
Мы пересекаем двор. В левом углу стоит небольшой двухэтажный особняк. На крыльце нас уже дожидается, видно, только что вставший с постели высокий и худощавый породистый старик — русский. Он чопорно представился профессором Стравинским (или Сикорским, или что-то в этом роде) — директором сельскохозяйственной высшей школы (или института, или колледжа?). В его школе немцы имели офицерский госпиталь и только вчера его спешно эвакуировали. Госпиталь обслуживали монахини из соседнего монастыря. Часть монахинь, боясь оставаться в монастыре, укрылась от «русских анархистов» здесь в надежде на защиту. Советские войска через школу не проходили. (Значит, мы действительно в потемках отвернули от главной дороги.)
Не помню что, но что-то в его рассказе не увязывалось с объяснениями монахинь. Это сразу заметил Григорий и потребовал показать «все». Мне пришлось идти, хотя с большим удовольствием я бы завалился спать. Мы долго ходили по каким-то катакомбам, где еще стойко держался больничный дух. Многие кровати перевернуты, около них валяются брошенные впопыхах простыни, немецкая одежда… Операционная… перевязочная с грязными бинтами и окровавленной гнойной ватой и пр., и пр. — поделом им!
Может быть, Григорий что-нибудь и подозревал, но мне в голову не могло придти, что и услужливый профессор, и монахини нас дурачат. Вероятно, часть раненых немецких офицеров, не успевших эвакуироваться, вместе с врачами в это время, затаив дыхание, сидели в подвалах монашеских келий. И знали бы те фашисты, что у гуляющих по верху советских солдат нет ни одного патрона и достаточно заряженного автомата, чтобы нас всех перестрелять, как цуциков.
Согласитесь, что возникшая ситуация во многом была похожа на ту, что в «Живых и мертвых» потом опишет К. Симонов. Там комбриг Серпилин вывел из окружения большую группу наших солдат. Солдаты по распоряжению СМЕРШ были разоружены и направлены в тыл для «проверки». По дороге они попали в засаду и метались по полю, как беззащитные овцы, пока не были почти полностью истреблены немцами.
Если эту сцену Симонов не выдумал, то можно допустить, что недоверие к солдатской массе кем-то специально культивировалось в нашей армии во время войны. Правда, что греха таить, иногда оно имело определенное основание. В частности, будь у наших солдат патроны, не знаю, как бы дальше разворачивались события в ту «вальпургиеву ночь» середины октября 1944 года в Восточно- Сербских горах…
Но патронов не оказалось, а раненые немецкие офицеры и представить не могли, что русское командование через ничьи горы отправило на передовую сто безоружных солдат. Поэтому пусть читатель не волнуется. В отличие от художественной сцены у Симонова, все было приземлено и, в связи с этим, не столь эффектно. К тому же я не исключаю, что определенную роль в этой истории опять сыграла моя «сорочка», которая (и читатель еще не раз в этом убедится), чем дальше, тем нахальнее и безответственнее будет себя вести, загоняя своего подопечного в, казалось бы, самые безвыходные ситуации и затем, на удивление окружающим, вызволяя из них живым и невредимым. Постоянные читатели уже начинают с недоверием относиться к моим рассказам о военных похождениях:
— Не может быть! Ты придумываешь!
Нет! нет! и нет! Я не барон Мюнхгаузен! Все было так! И та ночь еще только начиналась… Слушайте и соображайте, что сейчас будет происходить…