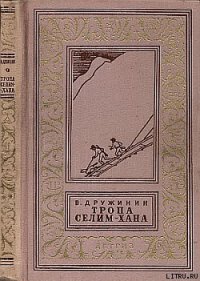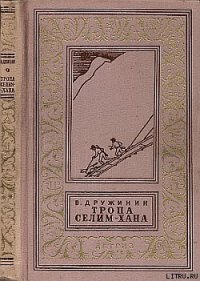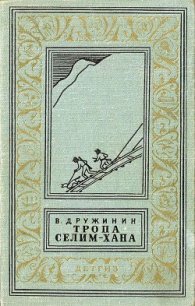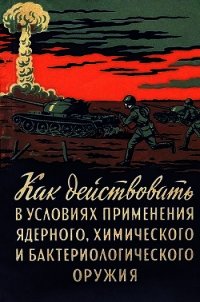Двойной агент. Записки русского контрразведчика - Орлов Владимир Григорьевич (чтение книг .TXT) 📗
Полицей-Президиум, узнав о подготовке такой фальшивки, арестовал Дружеловского, рассматривая данное дело, как самостоятельное преступление Дружеловского, а не преступление шайки, в состав которой входили Зиверт, Орлов, Пациорковский, Реттингер и прочие.
СОУЧАСТНИК ОРЛОВА — УЧАСТНИК СЛЕДСТВИЯ
Из материалов по делу Эльвенгрена и показаний его видно, что в подготовке покушений на советских деятелей принимал участие Г. И. Зиверт наравне с Орловым. Из материалов по делу Дружеловского и показаний его видно, что в организации шпионажа против Германии и в изготовлении фальшивок Г. И. Зиверт играл активную роль наравне с Орловым.
Зиверт служил одновременно в Полицей-Президиуме и в разведках различных государств. Зиверт выявил себя настоящим двурушником. При таких условиях участие Зиверта в следствии по делу, по которому сам Зиверт должен быть привлечен в качестве обвиняемого и арестован, является гарантией неправосудного разрешения дела. И немудрено, что прокурор безнадежно ищет улик, в то время как соучастник обвиняемых Зиверт имеет полную возможность уничтожать улику за уликой.
Приведенные факты, достоверность и правильность которых установлена, дают нам право говорить о том, что Орлов и Ко являются не обычной группой эмигрантов, контрреволюционеров, а что это — шайка международных авантюристов, работавших не только против ненавистного им СССР, но и против давшей им убежище Германской республики.
Р. Катанян.
ПИСЬМО ОРЛОВА В. Л. БУРЦЕВУ
17 августа 1930 года.
Глубокоуважаемый Владимир Львович!
В № 7 газеты «Общее дело», в статье «Всем, всем, всем!» (стр. 6), помещено обращение ко всем эмигрантским деятелям по поводу того, что «несмотря на то, что в эмиграции о многих деятелях циркулируют самые сомнительные сведения и слухи», — они не обращаются к доверенным лицам для того, чтобы расследованием их деятельности эти слухи опровергнуть.
Пользуясь случаем, я на основании параграфа 2 обращения редакции «Общего дела» покорнейше прошу Вас, глубокоуважаемый Владимир Львович, не отказать взять на себя труд и произвести расследование о моей деятельности в эмиграции и о тех слухах, которые регулярно и сознательно пускаются обо мне советской прессой и агентурой (подделка документов, служба и связи с иностранной агентурой, авторство «письма Зиновьева» и пр.) и охотно поддерживаются некоторыми представителями эмиграции и беженства, которые уже от себя лично настаивают на моем сотрудничестве в ГПУ и прочих ком. учреждениях.
ГАРФ, ф. Р-5802, оп.1, д. 2222, л. 12.
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Н. Н. КРОШКО-КЕЙТ
Пишу это по давней просьбе той моей службы и для себя, в конце концов, теперь, когда после описываемых здесь событий минули годы и годы, мне и самому надо разобраться в своей судьбе — необычной и непростой, в том, что тогда было моей работой и жизнью. Так или иначе, буду писать правду, хотя кое-что в памяти моей померкло и другой раз приходится задумываться: а точно ли так это было? Но врать не буду. В чем не уверен, лучше вовсе не напишу или сделаю необходимые оговорки.
Я не могу без горечи и боли вспомнить о том, как я, сын крестьянки Воронежской губернии Анны Ефимовны Крошко, внук крепостного, после революции оказался в стане белых, среди людей, чуждых мне по политическим убеждениям и по своему социальному положению…
Дед мой, Ефим Крошко, после солдатской службы остался работать в 7-м запасном кавалерийском полку вольтижером. Полк стоял в Тамбове, там и жила вся многочисленная семья моего деда.
Мать моя совсем молоденькой девушкой сошлась с офицером этого полка Александровичем. Результатом этой связи и было мое появление на свет в ноябре 1898 года. Николай Евгеньевич Александрович попал на военную службу поневоле. Он был студентом Харьковского технологического института, принимал участие в революционном движении и, когда при Александре III вспыхнули студенческие волнения, был исключен из института и отдан в солдаты. Не выдержав муштры и тягот солдатской службы, он, как говорится, идейно разоружился, примирился с действительностью, пошел в военное училище и стал офицером.
Когда встал вопрос об узаконении его связи с моей матерью, это оказалось для него делом непростым и еще одним испытанием. Ему нужно было уйти из полка, так как офицер не мог жениться на крестьянке. Александрович снова поступился своей совестью — из полка не ушел и бросил мою мать. Деда в то время прогнали из вольтижеров, а я стал внебрачным ребенком, или, как тогда говорилось, «незаконнорожденным».
Дед с семьей переехал в Воронеж, служил сперва кучером, а состарившись, ночным сторожем.
В Воронеже мать сошлась с Валерианой Александровичем Бедряной, служившим тогда начальником вокзала Бедряна был женат, давно разошелся с женой, но в те времена получить разрешение на расторжение церковного брака было невозможно, и мать жила с ним, как говорилось, вне законного брака. У них родились двое детей — мои сводные сестра Анна и брат Анатолий.
В 1904 году Бедряна перевелся в Полтаву, а затем в Киев, где он служил на Московско-Киевско-Воронежской железной дороге. Получал он небольшое жалованье, детей было двое, а затем трое, и мать стала работать портнихой.
Бедряна был много старше моей матери. Умер он в 1922 году.
В связи с переездами из одного города в другой я поздно начал учиться. При поступлении в гимназию, да и в дальнейшем крестьянское происхождение и «незаконнорожденность» крайне тяжело отражались на мне.
Рос я, как говорится, сам по себе, но учился хорошо и кончил гимназию с серебряной медалью. Рано начал работать: давал уроки, служил в товарной конторе.
Читал я много, как многие мои сверстники, увлекался спортом, но жили мы беспросветно бедно, и уже в те годы я начал чувствовать антипатию к богатым, ко всякого рода властям, даже сам царь-батюшка не вызывал у меня восторга, как у некоторых моих сверстников. Истинный мой батюшка меня бросил, и этот ничего хорошего нашей семье не сделал. Но это еще не было моей политической позицией. И вообще, политическими вопросами я стал интересоваться, только когда началась мировая война. Поражения русской армии, позорные дела царской фамилии, Распутин и все такое прочее — вот что заставило меня думать, почему все идет не так, как надо.