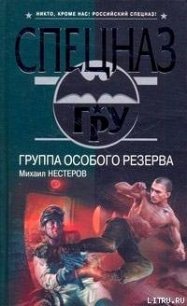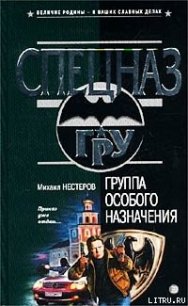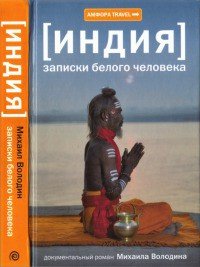Записки непутевого резидента, или Will-o’- the-wisp - Любимов Михаил Петрович (читать книги полностью без сокращений бесплатно .txt) 📗
Эпоха закончилась; но жизнь надо продолжать, что ж, взбодримся, подтянем штаны, вспомним Тютчева:
А потом ничего не изменилось — одни названия, хотя те же рожи.
А потом наступил октябрь 1993-го, и снова танки, но только посерьезнее и с пальбой, и снова неизвестность, и ощущение финала, и снова, и снова…
Телевизор. CNN.
Зеваки гурьбой переливались с одного края на другой.
Обезьянка за рулем рядом с пылающим останкинским зданием.
Там же, у пруда, пьяный в трусах, он не слышал грохота, не видел трассирующих пуль.
«Что делаешь?»— «Купаюсь! А что?»
Действительно, а что?
Труп мальчишки в луже крови.
Танки лупили по «Белому дому», и я ловил себя на том, что увлечен зрелищем, как будто я в кино. Больно, но не нравились ни те, ни другие.
Не выбежал.
«Мы победили, мы победили! — радостно голосили по телевидению. — Не упустим же победу, господа!»
У Лопеса:
…По полусломанному радио хрипловатый голос сообщает, что двери закрываются, и двери действительно закрываются, и электричка, словно история, движется вперед, набирая скорость, вперед и вперед— к лучшему.
Я люблю электрички, там люди выключаются из бурного бытия, с лиц спадает пелена суеты, они смягчаются, кто погружается в думы или, не мигая, разглядывает привычные натюрморты за окном, кто дремлет или листает книгу.
Входит нищий инвалид и заводит тюремную песню, оживают сердобольные старушки, пьяные поднимают головы и вслушиваются в тягучие слова, а нищий с протянутой кепкой бредет меж скамеек, благодарит и желает всех земных и неземных благ.
Врывается мальчишка с газетами и бодрым голосом объявляет: московская мэрия продала всех и вся, опять в кустах нашли расчлененный труп, а валютная проститутка в своих мемуарах раскрывает тайны профессии.
Старый пенсионер вздыхает громко по поводу нравов, женщина прижимает бледного ребенка к груди, две тетки в один голос сетуют на цены, но тема исчерпала себя, и лица снова обретают покой, стучат колеса, каждый погрузился в себя.
Воробей-путешественник спросил у полузамерзшего волка, зачем он живет в таком скверном климате. «Свобода, — ответил волк, — заставляет забыть климат».
Я чувствую себя, как волк.
Мне холодно, но я не хочу в прежний климат, я одинок, но в электричке вдруг ощущаю сопричастность своему народу (особенно нелепо это звучит, если представить, как жмут бока и плюются от злости), поразительное чувство одной судьбы.
Одна, другая, десятая остановка, люди сходят, как в жизни, появляются на свет новые пассажиры— поезд идет дальше, вспыхивает пламя прошлого за окном, и из дымки машет рукой мама, я совсем забыл ее, бедную, она умерла давно, а она так любила меня, и отец появляется в гимнастерке и портупее и показывает записку, оставленную 24 июня 1941-го: «Мои дорогие! Сегодня уезжаю. Родной Мишунька! Еду бить фашистов. Помни, что твой папка был всегда в первых рядах в борьбе с врагами нашей родины. Мы отстоим право на свободную, трудовую жизнь народа. Целую тебя, мой родной мальчик, целую вас всех. Родная Милуша! Тебе все понятно. Расти и воспитывай сына, сделай его достойным своего отца, будь сама стойкой… До свидания. Обнимаю и целую вас всех. Петр», — он читает записку и хмурит лоб, и я чувствую его руку, сжимающую мою в предсмертной тоске, уже без сознания, уже, наверное, на пути к небу.
Вспыхивают, восходят лики, и я вижу Катю, она умерла внезапно, она удивилась этому, и до сих пор на лице у нее ироническая улыбка: «Неужели ты поверил, что я умерла?» Конечно, не поверил, это невозможно, потому что невозможно никогда, слышишь, Катя?
А вот Игорь, у которого прятал чемоданы с запретными книгами, — всю жизнь спорили и мечтали о свободе, но лишь блеснул ее луч, и он умер, словно дождался и не захотел смотреть дальше, эх, старик, сейчас самое время доспорить, что лучше: просвещенный абсолютизм или парламентская демократия.
И два Володи, которых так не хватает…
И тут врывается балаган, моя ушедшая, еще не понятая самим жизнь, конспирация, глухие явки, служение Делу, тайники в кирпичах, шутовской хоровод агентов, суровых дипломатов, улыбчивых парламентариев и занудных ученых мужей, — они бредут, распевая революционные песни, размахивая денежными купюрами, красными флагами и цветными клоунскими колпаками, они шагают караваном медленно, словно по Великому шелковому пути, они любят и ненавидят меня, они уважают и презирают меня, они хохочут и закатывают истерики, полыхает солнце, жмурятся дамы-агенты и дамы — просто гак, и Ким Филби вдруг говорит, что был и умрет коммунистом, и рядом друзья, бывшие и настоящие, наложившие и равнодушные, разорвавшие и восстановившие, мой караван, огни мерцают сквозь туман, мой караван, — шагай, звеня, моя любовь зовет меня.
Бывший коллега, волоча ногу после инсульта, вдруг возникает на улице и, не успев еще нарадоваться счастью встречи, скривив рот, шепчет: «Старик, ведь мы с тобою всю жизнь проиграли в бирюльки! Разве разведка — это работа?» — «Да брось, — отвечаю я, — любая жизнь — абсурд. Разве не глупо, что мы случайно рождаемся и случайно умираем?» — «Нет, я не об этом, я давно знаю, что человек— это дерьмо, я не об этом, я о разведке…» — «Ты работаешь?» — «Не могу я работать, и не хочу! Зачем? Хватит пенсии!» — «А что же ты делаешь?»— «Трахаю, старик, и знаешь, это, пожалуй, самое лучшее занятие».
Тургенев писал: «Нужно принимать немногие дары жизни, а когда подкосятся ноги, сесть близ дороги и глядеть на проходящих без зависти и досады: и они далеко не уйдут». Добрая душа Иван Сергеевич!
Электричка тормозит, тупо пыхтят и открываются двери, голые фонари на голой остановке, над замершим лесом всходит золотой купол церкви, сосны, придавленные снегом, тропинка меж кустов, я бегу по ней, гладя на ходу деревья и вглядываясь в птичьи следы на снегу, я бегу — вот и луковка с крестом, устремленным в голубое небо.
«Кто будет веровать и креститься, спасен будет…» — протяжный глас, я вхожу, ослепленный вытертыми ликами на стенах, и в глазах лики — лики близких, живых и мертвых, и меж нами лишь быстротекущее время.
Не поздно ли спохватился, мальчик, не ставший кардиналом, но выбившийся в полковники? Думаешь, это спасет тебя? Рассчитываешь проскочить в рай, чичероне, как проскочил из коммунистов в антикоммунисты?
Отец отвернул лицо, лики безмолвны.
Шуршит стопка фотографий. Круглолицее дитя в пеленках на руках у счастливой мамы. Ухоженный мальчик в бриджах. Юноша в отцовских сапогах и бекеше. Покоритель Лондона во фланелевом костюме у статуи принца Гамлета. «Мерседес» и довольный собою резидент около русалки в Копенгагене. Помятая морда в Москве-реке.
Will-o’-the-wisp — блуждающий огонек.
Или по-латыни: Ignis Fatuus — глупый огонь.
Глупые, блуждающие огоньки вспыхивают ночью над болотами от внезапного сгорания метана. Они неуловимы и опасны, они завлекают в топи заблудившихся путников, обрекая их на смерть. А еще говорят, что это проклятые души, которые мечутся и мучаются и несут свой адский огонь.
Так и ты пролетел сквозь жизнь, глупый огонек…
Поезд проносится мимо, и нет святой обители, она осталась за лесом, сын говорит, что я ничего не понимаю, да и все мое поколение дураки, и жена говорит, что ничего не понимаю, а я твержу, что они не понимают, потому что дураки, поезд несется дальше, все остается позади, и совсем один, абсолютно один, невозможно один, застыли мудрые воробьи на проводах, не задают глупых вопросов волкам, спит бабка, прижимая к груди авоську с картошкой, парень разгадывает кроссворд, стучат колеса, сбивая стуки сердца, моя страна, моя страна, моя страна, все остается позади, поезд мчится все дальше и дальше, гадалка, гадалка, какое великое счастье, что путь мой тобой не означен, неточно прочерчен пунктиром, что не обречен я на счастье или на несчастье, и неясно дрожит моя звездочка в водовороте капризном, в мерцанье морозного мира.