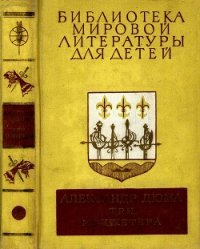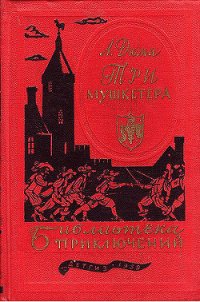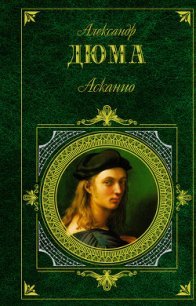Три Дюма - Моруа Андре (читать книги онлайн полностью без сокращений .txt) 📗
Однако трепещите!.. Вот и капля дегтя: у меня есть приятель, толстяк, он довольно-таки похож на ваших ньюфаундлендов; зовут его Маршаль – гигант, и весит он 182 фунта, а остроумия у него хватит на четверых. Этот может спать где угодно в каком-нибудь курятнике, под деревом, у фонтана. Можно его захватить с собой?»
Санд, разумеется, ответила, что и юная славянка и толстый художник будут для нее желанными гостями. Шарль Маршаль, задушевный друг Дюма, был художник эльзасец, бесталанный, но приятный в обществе; он нравился женщинам и был остер на язык. Друзья называли этого толстощекого великана кто Былинкой, кто Мастодонтом. Его непринужденность порою граничила с бестактностью. Закоренелый блюдолиз и не слишком скромный донжуан, он налево и направо болтал о своих победах. Дюма-сын терпел его со снисходительностью, достойной Дюма-отца. Можно представить себе прибытие в Ноан каравана из Вильруа и то удивление, какое вызвала у княгини и княжны Нарышкиных веселая и бесшабашная жизнь богемы. Дюма привез Санд дурную весть: сообщение о смерти Розы Шери, которую оба они обожали. Она умерла от дифтерита – заразилась, ухаживая за своими больными детьми. «Не плачь, – сказала, умирая, очаровательная актриса своему мужу, – не плачь, ведь наши малютки спасены». Роза оставила по себе светлую память, как человек великого благородства и самоотверженности.
Записная книжка Жорж Санд, 75 сентября 1861 года: «После обеда, в десять часов, прибыли мадам и мадемуазель Нарышкины, Дюма и его друг Маршаль с очень добрым лицом. Беседуем в гостиной… Понемногу расходимся – один за другим… Все веселы и в то же время печальны и волей-неволей говорят о бедной Розе…
1 октября 1861 года. Дюма читает нам начало «Вильмера», его пьесы; она восхитительна. Я поднимаюсь к себе, чтобы немного поработать. Вечером Дюма читает стихи…
9 октября 1861 года. Дюма уезжает в семь часов утра. Маршаль остается…
10 октября 1861 года. Долго сижу у Маршаля. Провожу с ним вечер, ведем умные разговоры, пока внизу репетируют…
16 октября 1861 года. Маршаль ставит вместе с Морисом спектакль марионеток…
19 октября 1861 года. Маршаль становится моим толстым Бебэ…»
Таким образом, Маршаль, прибывший в Ноан незваным гостем вместе с Дюма-сыном и всеми его «Россиями», долго оставался в Берри после отъезда своих друзей. Приехав на два дня, он пробыл несколько месяцев. Его увлечение марионетками завоевало ему симпатию Мориса Санда. Чувство Жорж к нему было совсем другого характера и вызвало неудовольствие Мансо (бывшего уже в течение десяти лет принцем-консортом). Под тем предлогом, что он пишет портрет владелицы замка, Маршаль запирался с ней в мастерской. Дюма-сын прислал свое благословение.
Дюма-сын – Жорж Санд, 23 ноября 1861 года: «Я говорил Вам, какое хорошее влияние можете Вы оказать на него авторитетом таланта, примером и советом; влияние, которого не могу оказать я, слишком близкий по возрасту, характеру и полу к этому взрослому мальчишке. Я просто счастлив тем, что Вы оценили этого человека по достоинству, а также тем, что сам он открыл в себе новый талант. Много раз я советовал ему заняться портретом, но среди художников бытует непонятная недооценка этого жанра, которой я не могу себе объяснить…»
В декабре Маршаль наконец покинул Ноан. Он не прислал Санд ни одного письма, ни одного нежного привета, ни слова благодарности. Напрасно ждала она весточки от него, посылая ему письмо за письмом. Ответа не было. Обезумев от тревоги, она обратилась к своему «дорогому сыну» Александру, чтобы узнать, что сталось с ее толстым Бебэ, ее придворным художником.
Дюма-сын – Жорж Санд, 21 февраля 1862 года: «Я никогда больше не решусь вводить кого бы то ни было в Ноанскую обитель, где все так слажено между друзьями, что малейшая песчинка может испортить весь механизм! Итак, наш друг Маршаль уже выказал себя неблагодарным? Рановато! Он должен был хотя бы сказать Вам спасибо за полученный им заказ на шесть тысяч франков, который принц дал ему лишь благодаря Вам. Увы! Увы! Я весьма опасаюсь, что человечество – отнюдь не лучшее творение Господа Бога…»
26 февраля 1862 года: «Сегодня я в ярости, и молчание моего Мастодонта немало этому способствует! Я не лучше Вас знаю, где он. Пороки воспитания, укореняющиеся в зрелом возрасте, весьма схожи с душевной черствостью. Этот бедный парень еще не знает, что когда так долго пользуешься гостеприимством такого человека, как Вы, гостеприимством столь сердечным и столь плодотворным, то следует по меньшей мере отвечать на письма, которые ты в довершение всего получаешь!.. Этот негодяй эгоистичен, как сама природа, и отличается таким простодушием, наивностью, бесцеремонностью, которым нет равных. До тех пор, пока я один страдал от этого, я объяснял эти свойства простотой отношений между сверстниками, но от Вас, да и от других людей его отделяет слишком большое расстояние, – нельзя подпускать его к себе слишком близко. Когда я вез его к Вам, у меня была затаенная надежда, что простота и доброта, которые Вы сохранили, несмотря на талант и славу, произведут на него благоприятное впечатление и покажут ему, каким надо быть, когда и он, в свою очередь, станет величайшим мастером своего искусства, покажут ему, что полезно знать в ожидании этого далекого будущего. Но я убеждаюсь, что он, как обычно, увидел лишь внешнюю сторону вещей и что на Вас он смотрит как на товарища. Это уж чересчур, дорогая матушка!..»
В течение всего 1862 года между «дорогим сыном» и «дорогой матушкой» велась активная переписка. Дюма завершил «Маркиза де Вильмера» и великодушно от» казался от гонорара за пьесу в пользу Жорж Санд. Он жаловался на жизнь:
«Минувшую неделю я провел в отчаянии и безделье. Не в силах был написать ни строчки – ни романа, ни пьесы. И потому я дал себе зарок: если мне удастся написать их, как я задумал, я пошлю ко всем чертям перо и чернила! Я барахтаюсь в них со дня рождения, и с меня хватит. Если только художник не переживает за свою жизнь троекратного превращения, как Рафаэль и другие лица – не стоит их называть, – то искусство становится презренным ремеслом. Кроме того, я вообще не художник. Ни по форме, ни по содержанию. У меня зоркий глаз. Я вижу достаточно ясно и говорю достаточно четко – это так, но в том, что я пишу, нет ни энтузиазма, ни поэзии, ни волнения. Это иронично и сухо. Произведения этого сорта развлекают, удивляют, затем утомляют публику, автора же это убивает. Закончив обе вещи – сделав этот двойной выстрел, – я попытаюсь жить для себя, и если в этой второй жизни родится что-то новое, какое-то неведомое чувство, суждение, даже иллюзия, я поведаю о них другим; если же нет, то – нет. Как будет связана с этой второй жизнью „Особа“, о которой мы столько говорили: номинально или фактически? Это не имеет значения. Не настолько я принимаю всерьез жизнь ее общества, чтобы цепляться за форму. Пусть я просто буду счастлив – больше мне ничего не надо, как тому герою из пьесы Мери, который ничего не требовал:
…в награду за труды –
лишь проводить все дни на лоне наслаждений.
Поживем – увидим. Ни одно из всех добрых и справедливых слов, которые Вы говорили мне, не будет упущено в том великом совете, что я держу с самим собой…»
Короче говоря, он склонялся к женитьбе на «Особе».
«Остается девочка, и в этом вопросе Вы совершенно правы. Придется ждать ее замужества, или хотя бы того времени, когда она сможет сознательно от него отказаться. Не буду ничего говорить Вам о «ее характере. Надо, чтобы Вы сами длительное время наблюдали Ольгу в жизни, чтобы оценить ее. Она в меру любит свою мать. Чувствует она себя хорошо только за городом. Она лакомка, целый день говорит о своем пищеварении – любимое развлечение породистых женщин. В своей бережливости она доходит до того, что отдает перешивать для себя старые платья матери и штопает чулки! И она же с превеликой легкостью отдает свои деньги любому нуждающемуся. Очень гордая, очень высокомерная с равными себе, она мягка и снисходительна с простыми людьми, на какой бы ступени они ни стояли. Имя не производит на нее никакого впечатления, она готова называться госпожой Бенуа. Она увлекается науками, в особенности точными, и не из честолюбия, ибо она копит свои небольшие знания так же, как копит свои карманные деньги. Ольга хочет знать для самой себя. В общем она молчалива и говорит только в подходящий момент. Больная печень прибавляет к этому сочетанию немного туманной меланхолии, без всякой фантазии. Вот что я увидел в ней, дорогая матушка. Выводы делайте Вы – женщина.