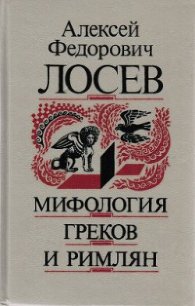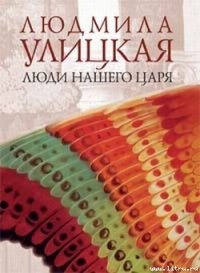Лосев - Тахо-Годи Аза Алибековна (мир книг .txt) 📗
Грузинские ученые оказались первыми, которые не испугались философа Лосева, не устрашились так называемого «мистицизма» неоплатоников. Отсюда наша дружба с грузинами.
Неожиданно неоплатонические проблески осветили и 1947 год. К своему великому удивлению, А. Ф. Лосев получил приглашение участвовать в трехтомной академической «Истории греческой литературы». Для III тома ему предложили написать главу о философской прозе неоплатонизма и его предшественников. Ученый-секретарь ИМЛИ имени Горького Е. А. Беркова просила (29/IV—1947) представить главу к лету 1947 года. В разгар кафедральных неурядиц А. Ф. погрузился в любимых им неоплатоников. Написал огромную главу, причем с упором на литературные и художественные особенности этих труднейших философов. Здесь Лосев – филолог, и более того, эстетик – проявил себя в полной мере. Было, правда, у него предчувствие, что глава целиком не пройдет, слишком все ново и необычно. Он даже написал специально письма членам редколлегии, просил не сокращать. Но, конечно, не вняли, сократили. Спасибо, хоть в усеченном виде, но напечатали главу о махровых мистиках-идеалистах. Да, это действительно был первый слабый проблеск, но все-таки был. И люди читали, удивлялись. Правда, из печати том III «Истории греческой литературы» вышел в 1960 году.
Незаметно приближались 50-е годы, роковые для нас троих, для нашей личной жизни. Не говорю о всей стране – она переживала общую беду и предвестие общего выздоровления, которое, увы, длится уже десятки лет.
В 1953 году в последний раз я провела лето у мамы, где бывала ежегодно с 1944 года. На переломе к весенней поре – 5 марта 1953 года – не стало «великого вождя народов» И. В. Сталина.
Никогда еще мы не слушали столько великолепной классической музыки, столь мрачно-торжественной, фатально-величественной, что звучала в дни траура. Сама судьба стучалась в наши двери. Ведь никто не поверит сейчас, какое потрясение испытывали так называемые обыватели, а иначе, простые люди, да и не только они. Задумывались о будущем, кто поведет великую державу, плакали непритворно в ожидании невиданных катастроф. Да, смерть Сталина граничила с всенародным и, более того, с космическим бедствием, хотя почти каждый в отдельности испытал на себе и своих близких тяжелую руку властелина полумира. Но ведь когда рушатся горы, разверзаются недра земли, море выходит из берегов, а пепел огнедышащего вулкана засыпает целые города – тогда вселенский страх охватывает бедное человечество.
Даже одна мысль о том, что будет некогда день, когда солнце погаснет, земля погрузится во мрак и мертвый сон обнимет мертвую нашу планету, уже одна эта мысль наводит ужас. Чего же вы хотите, если вдруг среди ночи металлический голос произносит слова, о которых тайно мечталось, но которых страшилась безмолвно произнести истерзанная человеческая душа. Сталин умер. Наконец умер. Зачем умер? Земля разверзлась, взволновалось человеческое море. Кто с горем, кто с надеждой на будущее, кто с любопытством и злорадством, – но все в ужасе от невиданной катастрофы ринулись лицезреть вождя, мертвого льва, поверженного Смертью.
Я сама свидетель этих мрачных толп, нервно торопящихся с затаенным блеском в глазах. Я сама с Алексеем Федоровичем и Валентиной Михайловной участница одного из таких шествий по бульварам, чтобы пробраться к Колонному залу. Удивительно, как быстро мы шли, почти бежали, как лезли через дыры в заборах, через какие-то щели, по дровам и доскам, как не боялись потерять друг друга и быть растоптанными. Но потом одумались и повернули, слава Богу, вспять, добрались до дому осознавать в уединении все величие этой катастрофы; будет ли она благодетельной или обернется чем-то еще худшим – никому не ведомо.
Маленький забавный штрих. Как только через несколько дней кончился траур и заработали промтоварные магазины, мы все – теперь уже радостно – отправились на площадь Маяковского в большой магазин радиотоваров и купили рижский приемник «Эльфа» – в наивной надежде слушать весь мир. Как оказалось в реальности, на Арбате такое общение с миром было невозможно, работали мощные глушители. Факт нашего похода в магазин, хоть и мелкий, но примечательный. Мы рассчитывали на новую жизнь и катастрофу теперь уже сочли благодетельной.
Но нас ожидало крушение в собственной семье.
По-моему, что-то сломалось в Валентине Михайловне, когда ей подробно рассказали об ужасной кончине лосевских друзей, известного археолога Бориса Алексеевича Куфтина (он хорошо знал моего отца и дядю) и его жены Валентины Константиновны (урожд. Стешенко), пианистки, ученицы Гольденвейзера.
Оба поехали отдыхать в Прибалтику. Там, случайно, рано утром, выходя из дома, наткнулся Борис Алексеевич на острый кол, подпиравший дверь, и, пока добирались до врачей, истек кровью. В больнице Валентина Константиновна упросила ее оставить наедине с покойником, ночью, в одной комнате, где и повесилась, глядя ему в лицо. Перед смертью написала завещание – рояль передать Святославу Рихтеру.
Из Тбилиси, где жили Куфтины, прибыл брат Бориса Алексеевича увезти его гроб (телеграмму дала еще живая Валентина Константиновна), а, приехав, увидел два гроба. Так их вместе и похоронили.
Это была замечательная пара. Я их помню хорошо в нашем доме. Оба красивые, высокие, внутренне изящные, талантливые. Он – открыватель и исследователь знаменитой Триалетской культуры (Грузия) – подарил в свое время нам об этом книгу. Она порывистая, живая, пианистка, профессор Тбилисской консерватории, автор диссертации о древнейшем музыкальном инструменте «Флейте Пана» – тоже целая книга. [299]
Оба были гонимы и не случайно попали в Тбилиси, а вынужденно. Погибли, когда их пригласили в Киев, ее в консерваторию (Валентина Константиновна – украинка), его в Институт археологии, когда начиналась для них новая жизнь.
Помню, как сидим мы в кабинете А Ф. и Борис Алексеевич, глядя на меня, изрекает: «Каспийская подраса Средиземноморской расы», а Валентина Константиновна в кроваво-красном шелку, наглухо закрытом вечернем платье с одной сверкающей брошью (была в гостях у Гольденвейзера, где много играла), волосы черные, глаза сияют, вся она излучает какой-то беспокойный свет.
Слушали мы втроем эту страшную историю погибели двух душ.
Ведь были у нас недавно, и нет их, и никогда больше не будет.
С тех пор помрачнела Валентина Михайловна, как-то внутренне замкнулась и, казалось, что-то скрывает от нас свое, тайное, тоже страшное и неизбежное. Думаю, что уже носила она в себе неизлечимую болезнь, не сознавая этого (никогда не лечилась, все врачи для А. Ф.). Смерть, да еще такая (самоубийство – грех-то какой, как молиться за них?), надорвала некую душевную струну, стало трудно сопротивляться болезни, упорно захватывающей последние жизненные силы.
Тяжелые предчувствия стали посещать Валентину Михайловну. В последнее лето в убогом домишке в Малоярославце ей не спится, и невольно складываются стихи, наспех записанные той же ночью. Она видит в А. Ф. свою единственную опору, ниспосланную Богом.
Именно это «когда?» становится все более зримым. Сроки подходят. Ее бессмертная, скорбящая и молящая душа чувствует Приближение страшного, неизбежного.
299
Эта книга, сохранившаяся и у нас, пострадала дважды – во время военной катастрофы и при ремонте нашего дома (залита горячей водой из батарей). С трепетом держу ее в руках. Еще можно читать.