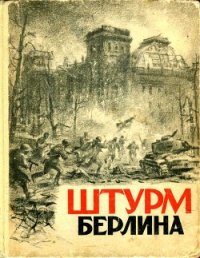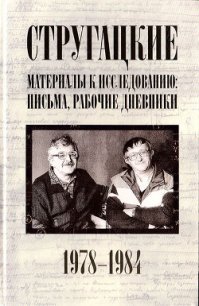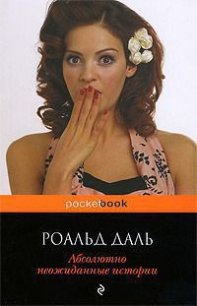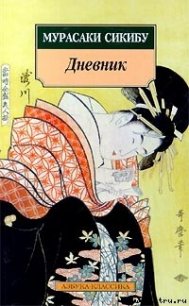Олег Даль: Дневники. Письма. Воспоминания - Анчаров Михаил Леонидович (бесплатная регистрация книга .TXT) 📗
Когда телеспектакль «По страницам журнала Печорина» прошел по телевидению, прозвучал стройный хор негодующих голосов. Такого холодного, автоматического Печорина принимать не хотели. И только немногие разглядели за подчеркнутой медлительностью героя и сложными хитросплетениями его изощренного ума гнетущую лермонтовскую тоску, желание отгородиться от мира людей и одновременно горечь одиночества.
Нечто подобное произошло позднее с фильмом «В четверг и больше никогда». Актер сразу же уловил накаленную атмосферу неприязни, воцарившуюся среди коллег. Фильм не приняли. И не только руководство. Многие в фильме не узнали себя. На худсовете «Мосфильма» категорически заявляли: «Таких типов у нас нет». Да и до сих пор то и дело раздаются реплики десятилетней давности (фильм сделан в 1978 году): «О чем этот фильм?!»
Почему же позднее были так восторженно встречены интеллигенцией «Полеты во сне и наяву»? Конечно, к началу 80-х годов общественная ситуация обнажилась настолько, что тех самых «типов, которых у нас нет», было такое количество, что не заметить их было уже нельзя. Но проблема, вероятно, заключалась не только в этом. Потому что «В четверг…» и «Отпуск…» еще долго продолжали пробивать себе путь к зрителю уже в «послепереломный» период. В чем же было дело?
Прежде чем говорить о героях Даля, следует уточнить, что речь идет не о сравнении литературных произведений или фильмов. Об общности в данном случае позволяют говорить те акценты, которые проставил сам актер. Едина проблема — един и тип.
Герои Даля — неприкаянны. Это их основное состояние. Невозможность найти себя в окружающем мире, а главное, себя в себе. Возбужденный, нервный Хосе Альба напоминает растерянного, встрепанного Лаевского, а холодная отчужденность Печорина близка к жестокому равнодушию Сергея. Виктор Зилов как бы подвел окончательную черту под тем трагизмом, который есть во всех предшествующих ему героях. Нарочитая обобщенность характеристик не перечеркивает их сложности и неоднозначности, их разнообразия. Но по тому, как, дозируя некоторые основные черты, актер переносит их из одного образа в другой, чувствуется, что мысленно он протягивает между ними связующую нить.
…Обреченно мечется Хосе Альба, переходя от мучительного животного страха к тщеславной гордости и почти физически ощущаемой сквозь экран усталости. Марионеточно разболтан и постоянно неустойчив Лаевский. «Бежать! Бежать!» — повторяет он как заклинание, и в голосе артиста возникает настоящая чеховская интонация; так взывали три сестры: «В Москву! В Москву!» Кажется, стоит что-то изменить — и все пойдет самым наилучшим образом. То здесь, то там мелькает среди ярко-насыщенной зелени заповедника фигура Сергея, героя «В четверг и больше никогда». Весь в движении Витя Зилов, но в нем есть еще и настороженность — готовность устроить розыгрыш или подвох, как правило теряя грань между шуткой и подлостью.
Что-что, а на гадость или подлость герой Даля способен в большей или меньшей степени. А можно ли вообще назвать «героем» в принятом смысле слова Лаевского, прожигающего жизнь, предающего единственного близкого ему человека? Или, скажем, такого Печорина — холодного, жестокого и жесткого, с ироничной озлобленностью разворачивающего свою интригу?
А уж Сергей или Зилов?! Один со стоическим наплевательством уничтожает вокруг себя все живое — и юную девушку, теряющую веру, и ручную косулю, и собственную мать. Другой причиняет боль, скорее с интересом — что из всего этого выйдет? — но вот в этот момент никакой боли не испытывает. Вопрос непраздный: герой или не герой? — в нем нет подвоха. В 70-е годы всех этих персонажей обозначали одинаково — антигерой. В бытовавшем представлении герой — нечто честное, мужественное, порядочное, то есть положительное. Антигерой, следовательно, всему этому противоположное, то есть отрицательное. Но почему-то не получается называть их отрицательными.
Самосозерцание, самоуглубление — еще одно важное состояние, которым актер наделяет своих персонажей. С годами Даль как бы «укротил» свою манеру игры. Это никак не отразилось на пластике, но она как бы перешла в другое качество. Скупость жеста восполняется внутренней динамикой. В кульминационные моменты он идет на открытый эмоциональный всплеск. Но в основном все чувства, переживания прячет, уводит внутрь. О них мы догадываемся, ощущаем, но не всегда видим воочию — здесь необходим момент сотворчества, сопереживания, чтобы понять, что имеет в виду актер. Стоит ему застыть, направив взгляд в одну точку, в его персонажах начинается интенсивная жизнь души, статика наполняется невероятной экспрессией. Тоска и отчаяние, непомерная гордыня и холодная озлобленность, растерянность и незащищенность появляются в глазах Печорина, Лаевского, Сергея и Зилова, буквально «перебивая» друг друга. Та самая рефлексия, которая в устах некоторых критиков приобрела оттенок почти бранный. Подумаешь, рефлексирующий интеллигент, нытик! Чего ему не хватает — жил бы как все. А если не получается как все? А если не хочется, невозможно как все?
У Козинцева есть следующее определение: «Современный герой — это задумывающийся человек». Каждое время имеет «своего» героя, сказал кто-то. Да, далевские персонажи прошли через горнило, сбросили розовые очки былых надежд и мечтаний, потеряли себя, потеряли веру и, очутившись в состоянии полного упадка, в какой-то момент своей жизни засомневались и начали осмысливать, как они живут, что происходит с окружающим миром и миром внутри них.
И не потому слоняется по комнате в ночь перед дуэлью Лаевский, натыкаясь на мебель, пустые бутылки, что боится смерти. Страх по-детски щемящий придет потом, под дулом пистолета Фон Корена. Бегающий испуганный взгляд куда-то в сторону, как будто оттуда может прийти спасение, а в глазах неотступно бьющая мысль — «кончена жизнь».
Постепенно в отношении Даля к своим героям возникает удивительная, нежная и мягкая «энергия сострадания». Он ищет, чем же «хороши» его «плохие» персонажи. Если же хороших сторон недостаточно, по его мнению, он находит их сам. Мало кто, наверное, обратил внимание, какой рукой держит оружие Печорин. Из всех близких Далю людей первой заметила Серафима Густавовна Шкловская: «Олег, а вы ведь стреляли левой рукой». Увидел это еще на съемке режиссер Эфрос, закричавший: «Что вы делаете?!» Даль вполне резонно ответил, что у Лермонтова не сказано, как это было на самом деле. То есть убил, но не хотел убивать.
Не пытаясь как-то оправдывать своих героев, актер не спешит их окончательно осудить. Он милосерден к ним. Он задерживает свой взгляд на них в то время, когда может зафиксировать их сомнения, недовольство собой, способность остановиться и заглянуть в себя. Влажные глаза в первую минуту смерти Грушницкого — глаза Печорина полны слез. Затем крупно — его затылок. Голова наклоняется все ниже и ниже — его тошнит. Долгий взгляд Сергея из «Четверга…», остановившийся на умирающем животном, а уж когда умирает мать, впору схватиться за голову и кричать, как в страшном сне, когда напрягаешь все силы, а из груди вырывается лишь хриплый стон. А потом — одинокий плач на берегу и одинокая, словно парящая над городом фигура застывшего в неподвижности Сергея. Или страстно-пронзительно исповедующийся у запертой двери Зилов. Именно сейчас он такой, какой есть, со всеми своими нереализованными человеческими качествами.
О Зилове, конечно, нужно сказать особо.
С тех пор как актер впервые услышал в компании друзей пьесу А. Вампилова «Утиная охота», он не уставал повторять: «Зилова может сыграть только один актер — Олег Даль», — что для сдержанного в проявлении эмоций Даля было совсем уж необычно. Он «заболел» Зиловым. Поэтому, когда стало известно, что режиссер В. Мельников на «Ленфильме» начинает работу над фильмом по этой пьесе, актер был убежден, что на главную роль пригласят именно его. Однако пробы шли уже около двух лет, а желанного вызова не приходило. Поэтому раздавшийся наконец-то звонок ассистента вызвал у Даля резкий отказ. И только приезд режиссера в Москву поставил все на свои места.