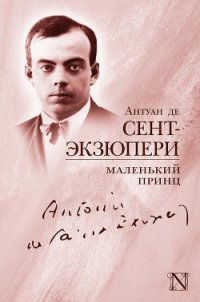Сент-Экзюпери - Мижо Марсель (читать книги бесплатно полностью без регистрации сокращений TXT) 📗
Я верю, что приоритет Человека создает единственное Равенство, единственную Свободу, в которых есть смысл. Я верю в равенство прав Человека через посредство каждой личности. И я верю, что Свобода в том чтобы стать Человеком. Равенство — не тождество. Свобода — не поблажка личности вопреки Человеку. Я буду биться с каждым, кто вознамерится подчинить личности — как и массе личностей-свободу Человека.
Я верю, что моя цивилизация называет Милосердием жертвоприношение Человеку, дабы установить его господство. Милосердие — это дар Человеку в обход посредственности личностей. Милосердие создает Человека. Я буду биться с каждым, кто, утверждая, что милосердие — дань уважения к личности, откажется от Человека и тем самым сделает навсегда личность пленницей посредственности.
Я буду биться за Человека, С его врагами. Но и с самим собой».
Для деголлевских политиков вопрос стоял еще так: не слишком ли прямолинейно писатель настаивает на том, что Франция в 1940 году потерпела поражение? Не оправдывает ли он тем самым перемирия Петэна? Не призывает ли он этим французов, еще следующих за маршалом Петэном, включиться в борьбу за независимость Франции?
Отсутствие авторитетных деятелей Третьей республики в деголлевском лагере вызывало у генерала и примкнувших к нему эмигрантов «комплекс неполноценности» и соответствующие реакции. Пуще всего деголлевцы в то время боялись утерять монополию «патриотизма», монополию борьбы за освобождение. Против Сент-Экзюпери — все, кто участвует в политической грызне эмиграции.
Любовь Сент-Экзюпери к Франции не всегда правильно понимали его земляки в Америке. Сам он настолько остро чувствовал и разделял страдания своей родины, что находил их чрезмерный оптимизм легкомысленным. Для него настали горькие годы, в которые он все же пытается проявлять активность, делать какое-то доброе дело. Он выступает с докладами, много пишет и, помимо публикуемых им произведений, неустанно работает над «Цитаделью».
И как могли ограниченные умы политиканов, занятых уже возней за распределение теплых мест, понять и принять высокие принципы патриотизма и в то же время глубочайшего гуманизма, провозглашенные писателем в «Военном летчике»? Ведь признание, что, обливая грязью родную страну, пачкаешься сам, никак не могло быть им по душе.
«Никаких сомнений в спасении у меня нет, — писал Сент-Экзюпери, — и не может быть: Мне уже яснее мой образ огня для слепого. Раз слепой идет к огню, значит в нем родилась потребность в огне. Огонь уже управляет им. Раз слепой ищет огонь, значит он его уже обнаружил. Так скульптор уже несет в себе свое творение, если его тянет к глине. И с нами происходит то же самое. Мы ощущаем всю теплоту нашей близости: вот почему мы — уже победители...
Вот почему по возвращении с Аррасского задания — и, как мне кажется, просвещенный этим уроком — в тиши деревенской ночи, прислонясь к стене, я начинаю внушать себе простые правила, от которых никогда не отступлюсь.
Раз я плоть от их плоти, что бы они ни совершили, никогда я не отрекусь от своих. Никогда я не выступлю против них при чужих. Если только представится возможность вступиться за них, я вступлюсь. Если они покроют меня позором, я замкнусь с этим позором в сердце и буду молчать. Что бы я тогда ни думал о них, никогда я не выступлю свидетелем обвинения. Муж не ходит по соседям рассказывать, что жена его распутница. Так он не защитит своей чести. Ведь жена — из его семьи. Он не может возвыситься за ее счет. Только вернувшись домой, он вправе выразить свой гнев.
Так никогда я не откажусь от ответственности за поражение, хотя это и будет меня унижать не раз. Я — плоть от плоти Франции. Франция породила Ренуаров, Паскалей, Пастеров, Гийоме, Ошеде. Она породила бездарности, политиков и шулеров. Но, думается мне, очень уж это удобно производить себя от одних и отрицать всякое сродство с другими.
Поражение разделяет. Поражение разлаживает налаженное. В этом таится смертельная угроза. Я отказываюсь способствовать разладу и сваливать ответственность за катастрофу на тех, кто мыслит не так, как я. Судебное разбирательство в отсутствие судьи — ни к чему. Все мы потерпели поражение. Я — побежденный. Ошеде — побежденный. Ошеде не сваливает вину за поражение на других. Он говорит себе: «Я, Ошеде, плоть от плоти Франции, оказался слаб. Франция оказалась слаба. Я — слаб в ней, а она — во мне». Ошеде знает, если он отвернется от своих, то восславит только себя. А тогда он уже не Ошеде определенного дома, семьи, соединения, страны — он не более, чем Ошеде пустыни.
Если я разделю позор моей семьи, я могу и воздействовать на мою семью. Но если я свалю позор на других, семья моя развалится, и я останусь одиноким. Со всей своей доблестью я буду никчемнее мертвеца.
...Каждый ответствен за всех. Каждый ответствен сам. Каждый ответствен сам за всех. Впервые мне становится понятно одно из таинств религии, породившей цивилизацию, к которой я утверждаю свою принадлежность: «Нести на себе грехи людей...» И каждый несет на себе грехи всех людей.
Кто может усмотреть в этом доктрину слабого? Начальник тот, кто приемлет на себя всю ответственность. Он не говорит: «Моих солдат побили». Он говорит: «Меня побили». Настоящий человек говорит только так. Ошеде сказал бы: «Виноват я».
Мне понятен смысл смирения. Это не отказ от себя. Это сама суть действия. Если, стараясь обелить себя, я оправдываю свои неудачи злым роком, тем самым я ставлю себя в зависимость от рока. Но если я принимаю ответственность за вину, я утверждаю свое могущество человека и могу тогда воздействовать на свою сущность. А я — составная часть человеческой общины.
Есть, значит, некто во мне, кого я перебарываю, чтоб возвеличиться. Нужно было проделать этот трудный полет, чтобы начать так разбираться в себе, научиться в какой-то мере отличать личность, с которой я борюсь, от человека,, который духовно растет. Не знаю, чего стоит образ, который приходит мне на ум, но я говорю себе: личность — только путь.
Меня уже не удовлетворяют спорные истины. Какой смысл обвинять личности? Они — лишь пути и переходы. Я не могу уже ни сваливать вину за мои замерзшие пулеметы на нерадивость чиновников, ни объяснять отсутствие помощи от дружественных народов их эгоизмом. Конечно, поражение несет с собой банкротство отдельных личностей. Но цивилизация лепит людей. И если той цивилизации, свою принадлежность к которой я утверждаю, угрожает несостоятельность личностей, я вправе спросить себя: почему она не вылепила их другими?
Цивилизация, подобно религии, — обвинение самой себе, если она сетует на слабодушие своих приверженцев. Это ей надлежит их воодушевлять. Точно гак же, если она жалуется на ненависть своих врагов. Ведь это ей надлежит обратить их в свою веру, Однако, моя цивилизация,, которая некогда была на высоте и сумела воспламенить апостолов, низвергнуть тиранов, освободить, рабов, оказалась сегодня не в состоянии ни воодушевлять, ни обращать в свою веру. Если я хочу найти корни различных причин, приведших меня к поражению, если я намереваюсь возродиться, надлежит сперва вернуть растраченный мной фермент.
Ибо с цивилизацией происходит то же, что и с хлебом. Пшеница кормит человека; со своей стороны, человек оберегает пшеницу, засыпая зерно в закрома. От хлебов к новым хлебам запасы зерна неприкосновенны, как наследство.
Недостаточно знать, какие хлеба я хочу вырастить. Если я хочу спасти определенный тип человека — и его могущество, — я должен спасти и те принципы на которых он создается...»
Чтобы занять какое-нибудь теплое место, нужно кого-нибудь спихнуть. Значит надо его предельно опорочить. Вопрос: «А где ты сам был?» — никогда не стоял ни перед одним политиканом.
Что до самого де Голля, то вряд ли он читал в то время «Военного летчика».
Неприятие Сент-Экзюпери деголлизма, в особенности в той форме, в которой он выразился в Америке, явилось для писателя причиной величайшей душевной драмы.