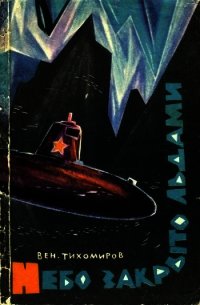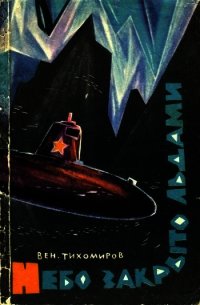Ее звали Марией (Документальная повесть) - Гуревич Яков Абрамович (читаем книги бесплатно TXT) 📗
— Ну, что, начинать? — кричит из кабины экскаватора Ваня Баркарь.
— Давай, — тихо, очень тихо командует Евгений Иванович.
Гул мотора становится громче, натужней, и ковш с блестящим мощным ножом тяжело, с лязгом падает впереди, подтягивается ближе, срезая и захватывая целый кубометр грунта, и вот уже весь корпус экскаватора вместе с ковшом легко разворачивается, выбрасывает землю далеко в поле. Еще один ковш, еще…
Десятки глаз напряженно вглядываются в обнажающуюся почву: вдруг покажется обломок, вдруг блеснет на солнце.
Целый слой грунта снят. Черная влажная земля, пахнущая прелью, — и больше ничего.
Касаясь самой земли, приминая жесткую траву, то и дело словно спотыкаясь, ползет щуп миноискателя. Юрия сменяет Вячеслав Шевченко, невысокий двадцатилетний солдат с крепкими загорелыми руками. И у этого парня биография — несколько скупых строчек. Школа, комсомол, армия. Мать — учительница, отец — колхозный пчеловод. Какое у таких ребят представление о своей профессии? Знакомо ли им чувство повышенной опасности, страха? Наверное, эти вопросы на языке у всех, кто нетерпеливо, выжидающе и немного тревожно наблюдает за скупыми, размеренными движениями солдата. И едва только он снова передает миноискатель своему напарнику, его тут же окружают рослые ребята из Дубоссарского профессионально-технического училища.
— Ну, какое представление о профессии? — задумчиво говорит Слава. — Нужная профессия. А какая, собственно, — ненужная? Да, опасная. Так опять же— разве она одна такая? Просто побольше осторожности требует, ясной головы и твердой руки, вот и вся наука.
Уже не дожидаясь расспросов, вдруг принимается рассказывать о своем отце. О том, как участвовал отец в Ясско-Кишиневской операции, как дважды был ранен, в ногу и в плечо, — шрамы до сих пор заметны, как вернулся с войны и поначалу все никак не мог привыкнуть к раскатистой канонаде весенней грозы.
Наверное, так почти в каждой семье, где служат сыновья в армии, стерегут тишину: в самом заветном уголке души у каждого — не воспоминание, нет, и не память — чувство сопричастности со всем, что происходило когда-то, до них, без них, чувство высокой преемственности мыслей, взглядов, дел, поступков.
…Острый нож ковша все глубже и глубже вгрызается в мягкую, податливую землю. Растут отвалы за спиной машиниста…
Ребята разговаривают со Славой вполголоса, словно опасаясь вспугнуть эту напряженную тишь земли, монотонный гул экскаватора. А глаза невольно устремляются к котловану, который постепенно заполняется грунтовыми водами. Ковш подтягивается, поднимается над котлованом, описывая дугу, вытряхивает груду земли. Ритмично, безостановочно.
Вдруг ковш замер. И все увидели: свисает какой-то шнур. Бросились к ковшу, бережно извлекли небольшой, сантиметров в двадцать, обрывок провода, и он пошел по рукам.
Теперь принялись за работу дубоссарские комсомольцы. Медленно, осторожно стали лопатами углублять котлован. Показалось, слишком грубо. Стали рыхлить, перебирать землю руками. Извлекли обломок — сплющенный, разорванный дюраль. Потом другой, третий. На одном, величиной в ладонь, проступил прикрепленный наглухо, двумя заклепками, номер — 43.199.
Потом котлован заполнился водой, и пришлось вызывать на помощь мощные помпы. Работа замедлилась и, наконец, совсем остановилась.
На следующий день помпы снова заработали на полную мощность. Сначала откачивали воду, потом вступал в дело экскаватор. По колено в холодной воде ребята орудовали лопатами. И опять помпы.
Наконец, чуть ли не на десятиметровой глубине земля раскрыла свою тайну.
Осторожно, затаив дыхание, стали передавать из рук в руки — мотор самолета, лопасть винта, пушку со снарядом в казеннике, пулемет со вставленной лентой, шасси, радиатор, снаряды к пушке, патроны к крупнокалиберному пулемету, парашют, во многих местах обожженный, со следами крови, с заводским штампом и номером — 062250. Извлекли останки человека, которые не оставляли никаких сомнений — истребитель пилотировала женщина. Шлем, обрывки брюк, залитые кровью и обгоревшие; в кармане брюк, застегнутом английской булавкой, — носовой платок; погоны со следами одной звездочки (значит, все-таки младший лейтенант?).
Когда раскопки уже подходили к концу, в отвалах земли нашлись документы. Кандидатская карточка на имя Кулькиной Марии Ивановны, выданная в марте 1942 года политотделом Грузинского управления ГВФ. Удостоверение, подписанное начальником штаба воинской части (полевая почта 40404) Вольским о том, что «Кулькина Мария Ивановна состоит с 10 ноября 1942 года на военной службе в Советской Армии». Орден Красной Звезды…
Что же она была за человек, младший лейтенант Мария Кулькина? Где росла и училась? В какой семье воспитывалась? Остался ли кто-нибудь из семьи в живых? Как протекал тот последний бой?
Все это пока еще оставалось тайной…
ЕЕ ЗВАЛИ МАРИЕЙ
Всегда перед глазами
Что придает поискам такой размах, такую поистине всенародную заинтересованность? Память о тех, кого давно уже нет рядом? Сохранившиеся письма, фотографии, награды? Черные печные трубы и скорбный перезвон колоколов Мемориала на месте былого селения? Рассказы очевидцев? И то, и другое, и третье. И еще — наша собственная, огнем опаленная память.
…18 июня наш выпускной класс сфотографировался — сразу после вручения аттестатов. Двадцать восемь юношей и девушек, радостных, чуть опьяненных торжественностью момента, чуть смущенных, очень разных. А в воскресенье утром пошли в местечко получать снимки — и увидели сгрудившихся под репродуктором на площади притихших людей.
…Люда Маковка, Маковочка, как мы ее ласково называли, жила с матерью и сестрой не в самом местечке, где была школа, а километрах в пяти-шести, в селе Ляды. Там, спустя две недели, впервые в жизни увидела живого полицая, молодого парня, из местных. Ввалился в хату, когда зарево отполыхало в окне, пьяно опустился на лавку, уставившись на сестер, хохотнул:
— Повезло дурам, одна поедет нах фатерлянд, на уборку урожая. Европу повидает…
Мать привстала, хотела что-то спросить, но только беззвучно зашевелила губами. Люда, младшая, побойчее, громко сказала:
— А нам твой фатерлянд ни к чему!
— Ну, ты, язык не распускай! — вмиг протрезвел полицай. — Знаю, что грамотная. Вот и поедешь. А сбежишь — сестру возьмем и хату впридачу спалим. Вот так.
И наступила для Люды на четыре года ночь. В которой громыхали на стыках теплушки и, словно скот, отбирали и сортировали на биржах труда рабочую силу, и с рассвета до поздней ночи звучало неумолимо, как удар кнута: «Шнель! Шнель!»
Изредка приходили из дому открытки. Половина строк была вымарана тушью. Зимой сорок четвертого сестра сообщила о смерти матери: пошла за водой к обмерзшему срубу, дрожащими руками потянулась к бадье — и не удержали ноги.
Когда наши войска освободили лагерь, первый солдат, которого Маковочка увидела, смерил ее недоверчивым взглядом, истощенную, сгорбившуюся, удивленно произнес:
— Никак, из России, тетенька?
Ей не было еще и двадцати…
И судьба ее оказалась не самой исключительной. Потому что, когда эшелон уносил ее на фашистскую каторгу, в заброшенный ров за местечком падали убитые выстрелами в затылок Рафаил Миркин, Хана Гитлевич, Рая Кокина — семь наших товарищей и подруг, не успевших взяться за, оружие и не сумевших уйти.
Наш отличник Адам Попков, высокий, чуть сутуловатый, с громким голосом, неплохо знавший немецкий язык, стал у партизан связным. У него в то время все еще было впереди — донос предателя, арест, первый побег, Маутхаузен, Дахау, новый побег…
По-разному сложились судьбы оставшихся в живых. Но едва закрываю глаза, как снова вижу нашу Маковочку, какой я повстречал ее четверть века спустя, — маленькую, поседевшую, в морщинках и с каким-то навсегда застывшим выражением испуга на лице. И еще — слышу рассказ Адама Попкова, его глухой скорбный голос: