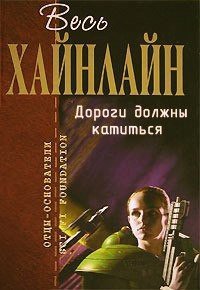Старые дороги - Полищук Сергей (библиотека электронных книг TXT) 📗
Старуха, рассказывая об этом, порицала Симу, но туг же ее и оправдывала.
– Понимаете, как она говорит, так она права, – объясняла она мне. – Мальчику – шестнадцать, но ведь уже пошел семнадцатый, а вернется из армии, ему все двадцать будет. А Симе тоже только недавно исполнилось тридцать девять, все время было тридцать восемь, даже только тридцать восьмой. Лет так через десять они вообще будут одинаковые… И мать мальчика, если хотите знать, не против. Она говорит: «Вернется дите с армии, хотя б попадет в хорошие руки!» А что?
Нет, конечно, когда по утрам на кухне старуха развлекает меня подобными разговорами, кошки скребут у нее на душе Ей стыдно за непутевую свою дочь, за ночные ссоры, которые между ними иногда происходят при обсуждении, по-видимому, всех таких матримониальных вопросов и которые слышны во дворе и поэтому в маленьком городишке всем известны, стыдно и, должно быть, необыкновенно больно. Но дочь она никогда не осуждает. Осуждает и во всем винит только негодяя Ичике с его ленью и его мерзостную с широченным задом и разрушительной антисемейной философией мамашу:
– «Ичике – эс, Ичике – тринк и Ичике – фарц!»
Повторяя это, она всякий раз оживляется, веселеет. И вдруг уже совсем-совсем становится веселой и даже словно бы молодеет на глазах.
– Ой, слухайте, вы, еще не знаете… не знаете, как ночью Ципе-Буре ходит на ведро, так это ж концерт!… – кричит вдруг она и сама очень-очень весело и громко этому смеется. Грешен, но не могу удержаться о г смеха и я.
– Ой, не люблю я вашего Узлянского, не люблю – и все. Ой, вы меня простите, у вашего Узлянского, «як у того жида – ни сраки, ни вида!…»
Но недолюбливала старуха моего независимого приятеля-следователя, я думаю, главным' образом, из-за этой его независимости: чем-то он должен был ей напомнить летуна Ичике, тоже ведь оставившего семейный очаг ради каких-то непонятных ему самому грез.
По вечерам мы иногда встречались с Евгением Абрамовичем на улице и тогда отправлялись с ним в городской парк, шли в кино или даже на танцплощадку, причем туда, чтобы потанцевать, шел один я, а Евгений Абрамович лишь издали наблюдал за танцующими стоя за высокой деревянной изгородью, над которой смешно высилась его голова с узким продолговатым лицом и всегда несколько удивленными глазами, напоминая голову жирафа над изгородью в зверинце.
Иногда, впрочем, прежде, чем пойти в парк, мы заходили в небольшой ресторан, что находился возле самого этого парка. Здесь по вечерам всегда было немноголюдно и необыкновенно уютно, а кухней здесь командовал добрейший старик-татарин с грозной ханской фамилией Довлет-Гиреев, непревзойденный мастер по приготовлению татарского азу. Вегетарианец Евгений Абрамович не прикасался к азу, как и к другим мясным блюдам, любил жареную картошку (единственное, что он мне позволял для него заказать), но уж ее-то он поглощал в огромных количествах, и старик-повар, который всегда сам принимал у нас заказ и сам же его выполнял, зная об этом, приносил целую ее гору. Если же к своему азу и картошке я заказывал маленький графинчик водки, Евгений Абрамович говорил, что это уже я затеял настоящее пиршество, «самое настоящее пиршество» и укорял меня взглядом. – «Ну с чего бы это?!»
– С того, – обычно отвечал я, – что оба мы устали и чертовски голодны. Что имеем право на личное счастье, пусть хоть такое небольшое, как этот ужин в приятной, человеческой обстановке. И потому, наконец, что рядом с нами существует замечательный мирный татарин, который сейчас нам принесет это счастье в виде двух своих блюд и стеклянного графинчика, тогда как мог бы принести горе и смерть.
И в ожидании нашего друга-повара конечно же, не упускал случая подтвердить свою мысль, так сказать, поэтически, потому что всегда, сколько себя помню, любил читать стихи, а Евгений Абрамович, как оказалось, любил их слушать.
– Евгений Абрамович, откуда у нас в районе татары?
– А откуда французы? – вопросом на вопрос отвечал он. – Целые французские деревни? Надо знать историю, дорогой Сергей Владимирович, историю этого удивительно интересного края, возникновение городов на Магдебургском праве. Татары-воины, ремесленники и купцы-армяне, финансисты-евреи – их приглашали сюда еще умные литовские господари и польские короли. Другое дело – французы, эти осели здесь во время отступления Наполеоновских войск. Красавцев-гренадеров двухметрового роста, израненных и обмороженных, полуживых, выволакивали из-под снега и льда наши сердобольные белорусские женщины, отогревали их па своих жарких грудях, рожали от них детей. И вот теперь у нас – несколько так называемых «французских» деревень. Все – «французы», хотя французского языка никто, ни один человек там не знает, все, конечно же, католики и все носят «сабо». И колхозный конюх Безансон – вчера я его допрашивал вполне уже по-нашински поджигает хату своего соседа механизатора Ренара, а Ренар – и тоже по-нашински – так его за это дубасит, что ломает ему два ребра, осколок ребра упирается в легкое, и в результате «тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни в момент причинения»… И все из-за того, что Безансон прятал у себя на огороде в собачей будке бутылку водки (от жены прятал, чтобы не заела жена – «каб жонка не заела, гэтая сучка Мария-Гортензия»), а хитрюга Ренар (у пего и фамилия соответствующая – лисица), Ренар это увидел, сумел обмануть и хозяина и его пса и выкрал бутылку. Ну, и тут честный Безансон, конечно, обиделся: собаку убил и пошел жечь хату соседа… Будете кого-нибудь из них защищать?…
Городской парк (он назывался в то время Комсомольским парком) был как я уже говорил, самым приятным в райцентре местом Он утопал в зелени, танцплощадку по вечерам заполняли красивые, вполне городского вида девушки-студентки, приехавшие из Минска и Ленинграда, даже из Москвы на летние каникулы к своим унылым полудеревенским родителям. Играла радиола. Там потанцевав один или два танца с какой-нибудь беловолосой красавицей, я возвращался к своему приятелю. Евгений Абрамович, поджидавший мент за забором и оттуда за мной наблюдавший, хвалил меня за смелость (правильнее было бы похвалить за наглость, потому что танцевал я отвратительно) и мы шли гулять дальше. Если же я и его звал на танцплощадку, он до самого неба взмахивал длинными, похожими па две жерди руками, на лице его отображался ужас человека, которого сейчас кастрировать будут, кричал: «Ну, что вы? Что вы такое говорите?!» и опрометью готов был от меня убежать.
Говорили опять-таки о тех или иных происшествиях, том или другом общем знакомом, шутили. Если, лукавый юнец, я упоминал Фаину Марковну (разговор о ней, конечно же, начинался с моей подачи), Евгений Абрамович от волнения даже останавливался глаза его округлялись (за толстыми стеклами очков они казались совсем круглыми), в них появлялось выражение настороженного ожидания (с чего это я вдруг заговариваю о Фаине Марковне?) и, глядя прямо на меня, он произносил некую ни к чему не обязывающую и всегда как бы находящуюся под рукой фразу, но в то же время имеющую явно упредительно-защитительное значение:
– Оч-чень, оч-чень, по-моему, приятная дама, весьма!
И лишь после этого позволял себе улыбаться, давая понять, что данная тема ему не неприятна.
1
Дмитрий Кедрин. Конь.