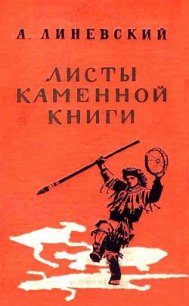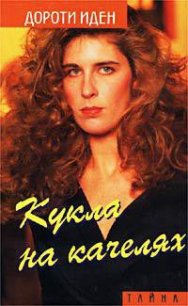На качелях XX века - Несмеянов Александр Николаевич (мир бесплатных книг .txt) 📗
Мое естествознание
Не помню точно, когда у нас поселился дядя Володя, мамин брат, студент-естественник МГУ. В высоких болотных сапогах (для форса) и белой рубахе он отправлялся на сбор насекомых с сачком и пробирками со спиртом, я иногда участвовал в этих походах. Не только такие «выдающиеся» представители жуков, как носороги и олени, бронзовки, майские жуки, дровосеки и навозники, майки, водолюбы, плавунцы, но и разнообразные жужелицы, златки, щелкунчики, полевые скакуны, восковики, кузьки и т. д. стали мне близкими знакомыми.
Для развития в естественнонаучном направлении воспитанников приюта на лето был приглашен некий Попандопуло (фамилию я, может быть, и путаю), и я принимал участие наряду с ребятами в экскурсиях с ним. Он вводил нас в жизнь болот, с их населением — водомерками, гладышами, личинками стрекоз и комаров, знакомил с повадками ос, познакомил с осой помпилиус и т. д. Моя первая попытка (она может относиться ко времени не позднее 1908 г.) собрать коллекцию жуков окончилась плачевно. Я проявил самостоятельность и, раздобыв коробку и пластинку торфа, рационализировал дело, накалывая жуков без их умерщвления. Когда маме захотелось взглянуть на мое достижение, то она пришла в ужас. Все наколотые на булавки жуки пытались ползти, и коробка издавала сотни царапающих звуков. Вдруг и мне сделалось стыдно. Я внезапно понял гнусность своего поступка, хотя раньше был очень далек от его осознания.
Не сразу, но внимание мое с энтомологии стало переключаться на другие разделы естествознания. Мне нравились камни, но наставника-минералога у меня не было. Однажды в шкафу у папы я обнаружил коробку с немецкой коллекцией минералов. Справедливо полагая, что для демонстрации качества вещества форма не имеет значения, я от каждого образца ударом шпингалета отколол по маленькому кусочку и составил таким образом свою коллекцию минералов.
В то же время новая естественнонаучная страсть овладела мной — яйца птиц. Высмотрев в дупле или в кустах, или просто на дереве гнездо, когда в нем было еще 2–4 яйца, я брал одно и, проколов булавкой с обоих концов, выдувал белок и желток, а цветная скорлупа попадала в мою коллекцию яиц. Ребята мне помогали, и, конечно, без этих отважных лазунов по гигантским сокольничьим соснам я никогда бы не приобрел таких раритетов, как яйца коршуна или, как мы его называли, ястреба, вившего гнезда на самых вершинах гигантских сосен с голыми стволами. Эти шарообразные яйца с редкими карими крапинками были не меньше куриных и служили главной драгоценностью. Нужно было иметь немалое мужество, чтобы взять яйца из гнезда на вершине двухсотлетней сосны при сопротивлении двух огромных птиц. Не раз я наблюдал, как кукушка, держа яйцо в клюве, подкладывает его в гнездо горихвостки в расщелине ствола, у меня была и эта драгоценность — светло-зеленоватое яйцо с очень широким тупым концом с венчиком из коричневых точек. (Замечу в скобках, что в 40-50-х годах мне казались удивительно нелепыми публичные разглагольствования Лысенко [32] о превращении пеночки в кукушку, я-то это дело знал с девятилетнего возраста).
Еще в более раннем возрасте под руководством мамы я собирал гербарий. Папа старался приучить меня к физической работе путем участия в создании нашего небольшого сада (рытье ям под кусты и деревья и их посадка, возделывание и прополка гряд и т. д.). Здесь, однако, получилась обратная реакция, и я всю жизнь, уж не говоря о детстве, относился к таким делам прохладно.
Мало-помалу, годам к 10–11, я был вынужден забросить энтомологию, хотя в душе оставался страстным естественником. Не столько горько-памятная мне до сих пор история с накалыванием жуков сыграла здесь роль, хотя и она была каким-то толчком, сколько то, что с десяти лет я начал борьбу за свое вегетарианство и отказался из гуманистических соображений есть мясо, а значит, — логика такова — нельзя было мне приносить в жертву моей прихоти жизнь жуков и бабочек.
Случай, о котором я уже говорил, помог мне сохранить и упрочить связь с естествознанием. Летом 1912 г., будучи уже гимназистом, в сарае в Киржаче я нашел пожелтевший старый учебник химии Рихтера [33]. Читая его, я открыл для себя совершенно новый мир, с которым, впрочем, первое соприкосновение я получил раньше — в 1910 г., когда узнал, что черные чернила делаются из «чернильных орешков» — шариков-наростов на листьях дуба — и «железа». Выдавив сок чернильных орешков и положив в него мелких гвоздей, я, к удивлению, получил отличные черные чернила. Надо сказать, что я очень любил всевозможные фокусы, и мне дарили коробки с набором разнообразных картонных коробочек с двойным дном и исчезающими за ним предметами, цилиндров с протягиваемой через них веревкой, которые можно разрезать, а она остается целой и т. д.
Но что эти фокусы в сравнении с чудесами химии! Мгновенная перемена цвета лакмуса, исчезновение синего йодокрахмала и снова появление его, дым без огня из хлористого аммония и венец всего — взрыв смеси хлора с водородом при освещении солнцем! А какие аппетитные описания таинственных веществ и их получения в ретортах, колбах. Желто-зеленый газ хлор! Двуокись хлора, полученная из бертолетовой соли! Взрывающийся от прикосновения серый порошок йодистого азота, сам йод с его фиолетовым паром! Целый мир таинственный и реальный.
Приехав в Москву, я энергично занялся экспериментами. Посуду — пузырьки и склянки — частично можно было найти дома в аптечке, частично в экспедициях по помойкам в Алексеевском поле. Реторта была куплена, так же как и спиртовая лампочка. К этому времени я получил в подарок книгу Фэдо «Химик-любитель» [34] и убедился, что многие реактивы можно получить из подручных источников. Вместо лакмуса годилась красная капуста, соляной кислотой у нас промывали фаянсовые устройства, серную — ставили в стаканчиках между окон, сода употреблялась в стирке, а бикарбонат натрия — «питьевая сода» — был в аптечке. Там же был нашатырный спирт и раствор йода. Поташ можно было получить из золы, известь — достаточно пойти на улицу, на стройку. Хлористый аммоний употреблялся при пайке. В мастерских я мог добыть также стружку и опилки всевозможных металлов, серой заливали щели, прикрепляя металл к камню. Маляры применяли медный и железный купоросы. Словом, мои глаза раскрылись, и я увидел, что мы живем в мире химии. Но кое с чем было трудно. Где, например, взять селитру? Я подозревал, что белые налеты на кирпичных зданиях — это селитра. Но их так мало, не наскребешь. Надо было проложить путь в аптеки. Не помню, на какие деньги я приобрел первый пакетик селитры, но сам пахнувший аптекой желтый пакетик хорошо помню.
«Чистые» опыты я производил в своей комнате. Поступив в гимназию, я переселился из детской в комнату, выходившую в столовую, соседнюю с «тетиманиной»: дядя Володя уже кончил университет, женился и уехал, насколько помню, в Арзамас. Позднее ко мне в комнату перекочевал и брат Вася. Здесь стоял шкафчик со стеклянной дверцей, который я целиком занял химией, и мне дали маленький кухонный столик. Но «вонючие» опыты, разумеется, нельзя было производить в комнате, и я это делал на площадке черной лестницы, пользуясь тем, что на третьем этаже единственный вход с этой площадки был в нашу квартиру, а лестница вела только на чердак.
В «чистой» лаборатории я совершал чудеса «синтеза» обычной поваренной соли и соды и соляной кислоты, получал растворы едкого натра и едкого калия из соды, поташа и извести, изумительную пластическую серу, сернистое железо, из него сероводород, и кислород — из бертолетовой соли. Чудесный газ! Как в нем горела железная проволока и разгорался уголек! Из цинка и соляной кислоты выделялся водород, собранный в пробирку, он горел, превращаясь в воду! А в смеси с кислородом в тонкой пробирке, подожженный, он взрывался с грозным свистом. Хлор я тоже добывал в «чистой» комнате, так как все это производилось в замкнутой системе. Чудесны были всякие обесцвечивания хлором. Поразила меня светочувствительность смеси красной кровяной соли и лимоннокислого железа — аммония. Соединив их растворы и пропитав ими лоскут бумажной материи, а затем, высушив его в темноте, я ставил его под негатив на солнце (с тайнами фотографии, проявления, печатания я был давно знаком — папа имел аппарат, снимал, и я иногда участвовал в проявлении пластинок и в прочем) и, после экспозиции и промывки водой, получал прекрасное синее изображение, например нашей семьи, исполненное на платке берлинской лазурью, а стоило платок опустить в щелочь — изображение исчезало и появлялось вновь при подкислении.