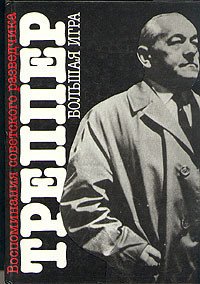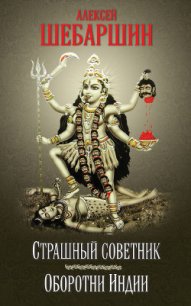Путешествие в страну Зе-Ка - Марголин Юлий (лучшие книги без регистрации txt) 📗
Тем временем я продолжал жить вместе с Коберштейном. С наступлением тепла мой долговязый сожитель заметно изменился ко мне. Я почувствовал, что в чем-то его стесняю. Он был похож на Паташона, но я совсем не походил на круглого маленького жизнерадостного Пата. И у меня явно нехватало чувства юмора, чтобы уравновесить меланхолическое молчаливое неодобрение, с которым он относился к моему присутствию. В чем дело? — В летние месяцы огонь нашей печки стал привлекать особых клиентов. Едва смеркалось, начинали сползаться, крадучись, темные фигуры в сенцы нашей сушилки, отворяли дверцы печки и совали внутрь котелки. В котелках была трава, грибы или ворованая картошка. Одни заходили к хозяину, и с его разрешения ставили котелок. С этих полагался «могарыч». Другие норовили поставить без спросу и улизнуть с готовым котелком, ничего не давши. Всегда кто-нибудь, как мышь, ворошился в темных сенцах, присевши на корточки у огня. Доходы от печки принадлежали Коберштейну. Он позволял и запрещал, гнал контрабандистов и ставил на огонь приносимые котелки. Я отказался от доходов этого рода. Вечером я был занят в конторе по делам хроников, а Коберштейн председательствовал в собрании под печкой сушилки при котелках. С каждого котелка сходила ему маленькая кружечка. Но скоро оказалось, что меланхолический Паташон имел еще другой источник дохода.
Две низкие нары находились внутри сушилки.
Это были доски, положенные на деревянные обрубки. На моей наре лежала красная подушечка крестьянского полотна, привезенная из Пинска, поверх сенника набитого стружками и серого казенного байкового одеяла. У Коберштейна не было подушки, и он подкладывал под голову полено, обернутое в бушлат. Вечером, когда я уже разделся и лежал под окном, в сумраке белой ночи, в томительном жару сушилки, к Коберштейну пришли гости. Один был Митя, знакомый з/к, с которым я косил прошлое лето в бригаде покойного Семиволоса. Теперь он был десятник — сделал карьеру в лагере. С ним была женщина. Они сидели втроем на наре Коберштейна и тихо переговаривались. Митя и Густав курили. Докурив, Коберштейн поднялся и пошел к выходу. В дверях он остановился.
— Спит! — сказал он, глядя на меня.
— Нет, нет! — отозвалась женщина. — Как же так! Вы его разбудите.
Она смущенно засмеялась. Коберштейн окликнул меня и сделал знак, чтоб я вышел.
В сенях он попросил, чтоб я полчасика посидел у Арона в кипятилке.
Полуразвалившаяся сушилка на краю лагеря была лагерным домом свиданий. Это было одно из очень немногих мест, где двое людей могло уединиться, не обращая на себя внимания. Теперь я понял, почему Коберштейн с началом теплого времени забеспокоился и все меня уговаривал перейти спать в другое место. Я ему мешал. Он боялся, что я потребую свою долю.
Бедный лагерный Паташон. Он тоже, вероятно, не готовился в жизни к такой карьере, и был бы очень удивлен, если бы сказали ему в те годы, когда он был на воле почтенным отцом семейства, что так кончится его жизненный путь в «исправительно-трудовом» лагере. Я ничего ему не сказал. Через час, когда я вернулся в сушилку, он уже лежал смирно на своей наре, и никаких разговоров на эту тему у нас не было. Но через неделю опять пожаловали гости. Тут уж я не ждал, а сразу оделся и ушел «из дому».
А как хорошо было в сушилке! Зимой тепло, вари, суши хлеб сколько хочешь. Свой угол — без шума и грохота в многолюдном бараке, без ежедневных драк и ссор, без глаз, которые следят за тобой со всех сторон, без воров, даже без клопов. Одни "тараканы… И вот, это неожиданное осложнение. Я недоумевал, как мне поступить, и куда мне теперь деваться…
А на следующий день в столовке за ужином благодарный Митя уже весело махал мне: «Хочешь супу? Я оставлю».
Я представлял себе, как это будет выглядеть месяца через два, если я останусь: два инвалида в гнусной норе, куда по вечерам сходятся гости — с котелками, и без котелков…
Это было дно падения. Отсюда оставалась мне дорога разве только на кладбище, на «72-й квадрат». Я должен был что-то предпринять, что-то изменить в своей жизни. Но я уже не был хозяином над собой, даже настолько, чтобы выбрать самому место и условия своей смерти. Только чудо могло меня вырвать из призрачного шествия миллионов скованных и обреченных людей.
В июле 1944 года наступила резкая перемена в моей жизни.
23. ПУТЬ НА СЕВЕР
30 мая 1944 года поступила бумага в Круглицу относительно 4 поляков, т. е. «западников», пригнанных из Польши. Предлагалось немедленно освидетельствовать их на предмет годности к военной службе в частях польской армии.
Эта бумажка привела в неописуемое волнение всех круглицких поляков. Их было человек 12. Непонятно было, почему выбрали именно этих четырех. Среди них был и я.
В то лето формировалась новая польская армия под начальством полк. Берлинга на советской территории. Это была та армия, которой суждено было под верховным советским командованием пройти боевой путь до Берлина и принять участие в изгнании немцев из Польши. Организаторы ее просили советское правительство отпустить из лагерей тех польских граждан, которые могли быть использованы в рядах новой армии.
Мне оставалось еще свыше года до конца срока. Из первой «амнистии» для поляков меня ислючили под невероятным предлогом, что я — «лицо непольской национальности» (попросту — польский еврей). А теперь предлагали Санчасти в Круглице немедленно проверить мою пригодность для службы в рядах польской армии. Я не удивлялся. Это был «новый курс». Я был счастлив. Меня и других 3 поляков повели в продкаптерку, где стояли большие весы, на которых Крамер отвешивал продукты. Там установили мой вес: 30 мая 44 года я весил ровно 45 кило против 80, которые я весил до лагеря. Потом главврач Круглицы, Валентина Васильевна (вольная) осмотрела меня. И тут наступило жестокое разочарование.
Валентина Васильевна отказалась написать, что я гожусь для военной службы. Я знал, что она хорошо относится ко мне и, наверное, не хочет мне зла. Как же она могла закрыть предо мной дверь на свободу? Я умолял ее написать, что я гожусь хотя бы для нестроевой службы. Но она категорически отказалась. — Я не могу писать нелепых вещей, — сказала она. — Людей в вашем физическом состоянии не посылают в армию. Вы же дохлый. Вам надо месяцев шесть посидеть в Доме отдыха на усиленном питании, и то еще неизвестно, станете ли на ноги.
Тогда я написал заявление начальнику Ерцевских Лагерей. «Меня забраковали, — писал я, — но это неправильно. Я знаю языки. Я кончил университет и могу найти при армии применение, не требующее физической силы. Фронтовой паек быстро поставит меня на ноги, тогда как в лагере никаких шансов на поправку у меня нет. Я прошу дать мне возможность исполнить свой долг польского гражданина и антифашиста».
Все четыре поляка были признаны негодными к военной службе, и все написали заявления вроде моего, но не дождались никакого ответа.
Вместо этого пришла неожиданная перемена. В июне я потерял инвалидность. Ту самую инвалидность, с которой уже свыкся как со своим естественным состоянием до того, что забыл основной лагерный закон: «ничто не вечно». Начальство, которое сделало меня инвалидом, могло в любой момент сделать меня трудоспособным. Для этого требовался только росчерк пера. Летом 44 года ощущался в лагерях НКВД резкий недостаток рабсилы. Слишком много инвалидов! Было решено, что впредь только калеки или умирающие будут пользоваться преимуществами инвалидного положения. В Круглицу приехала комиссия для переосвидетельствования инвалидов. В полдня всех пересмотрели. «Пересмотрели» буквально. По две минуты на каждого. Мы уже знали, что приехала комиссия «упразднять инвалидов». Мне даже не пришлось раздеваться. Меня ни о чем не спрашивали и записали: «Годен к работе. 3-я категория, индивидуальный труд».
Пометка «индивидуальный труд» была новостью. Это значит, что посылать меня на работу надо было с разбором. В каждом случае надо было присмотреться ко мне и решить: гожусь ли я именно на эту работу. Однако, я уже знал, что на практике некому будет обращать внимание на мое «индивидуальное» состояние.