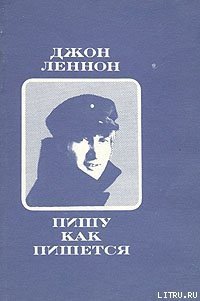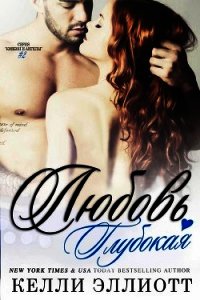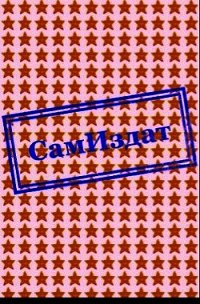На берегах Невы - Одоевцева Ирина Владимировна (книга жизни TXT) 📗
Как-то Сологуб сказал Гумилеву:
– Вот часто удивляются, как я мог создать Передонова. Какая жуткая, извращенная фантазия. А я его, видите ли, большей частью с себя списывал. Да, да, очень многое. И даже «недотыкомку». То есть она, наверно, появилась бы, материализовалась, если бы не было стихов как отдушины. Впрочем, и с поэзией надо осторожно, тоже многих к гибели приводит. А мне вот помогает... Вы меня поймете, Николай Степанович, вам самому поэзия мать, а не мачеха. Оберегает вас, помогает вам. А вот Блока ведет к гибели. И не его одного. Надо быть очень сильным, чтобы суметь справиться с поэзией, не дать ей проглотить себя. «В мерный круг твой бег направлю укороченной уздой», – мне всегда кажется, что это Пушкин о поэзии. Он-то умел с ней справиться. А Лермонтов – нет, не мог. Оттого и погиб.
Гумилев, хотя он совсем не был согласен, слушал не перебивая, не споря. Перебьешь – насупится и замолчит. Надо ждать, пока Сологуб сам задаст вопрос. А Сологуб продолжает отчеканивать:
– Вот еще меня упрекают в жестокости. Будто «Мелкий бес» жестокая книга. Но ведь без капельки жестокости не бывает великих произведений. Это, как вы знаете, Николай Степанович, еще Лопе де Вега сказал. И как это правильно. Капелька жестокости необходима. Без нее, как без соли, – пресно.
Сологуб, устроившись роскошно, завел у себя журфиксы. Сологуб был радушным, но чрезвычайно важным хозяином. Гости не могли не чувствовать, что он оказывает им немалую честь, принимая их у себя.
Анастасия Николаевна же совсем не годилась для роли хозяйки «раззолоченного терема». По внешности – типичная курсистка, синий чулок, небрежно причесанная и одетая, с вечной папиросой в руке, она всегда была чем-то взволнована и боялась каких-то интриг и заговоров против обожаемого ею Федора Кузьмича.
– Ах, Федору Кузьмичу все завидуют. Все хотят повредить ему, подкопаться под него. Погубить, но пока я жива, я не позволю его врагам... Но как обнаружить врагов? Они часто скрываются под видом друзей.
Самое трудное в положении бедной Анастасии Николаевны было то, что Сологуб требовал от нее ровно-любезного отношения ко всем гостям, а у нее сердце разрывалось от любви к друзьям и от ненависти к врагам. Но показывать чувства нельзя – Федор Кузьмич рассердится, не дай Бог. Страшнее этого она ничего представить себе не могла.
Гумилев сочувственно кивал головой:
– Нелегко, несладко быть женой великого поэта. И, откровенно говоря, вообще поэта. Даже, к примеру, моей женой.
И еще рассказ о Сологубе. Я вспомнила рассказ Гумилева о том, как он еще до революции вздумал вместе с Городецким издать какой-то альманах. Осведомившись по телефону, не помешают ли они, Гумилев и Городецкий не без робости отправились к Сологубу просить стихи для альманаха.
Сологуб принял их в своем раззолоченном кабинете, в шелковом халате. На письменном столе, среди рукописей, стоял крохотный серый котенок, пушистый клубочек шерсти, еле державшийся на тоненьких лапках, и усердно лакал молоко с блюдца, а Сологуб, нагнувшись над ним, внимательно и восторженно-удивленно наблюдал за ним.
– Нет, посмотрите, как старается! – проговорил Сологуб, кивнув им наскоро. – Почти все блюдце вылакал. Ах ты, маленький негодяй. Утопить тебя хотели!
Он осторожно поднял котенка и посадил себе на ладонь. Городецкий слегка погладил котенка по шейке:
– Прелесть. И глазки зеленые, – льстиво восхитился он.
Сологуб отвел руку Городецкого.
– Осторожно, Сергей Митрофанович. Не трогайте. Вы ему спинку сломаете. Ведь у него такие нежные косточки, а у вас грубые пальцы. – И, распахнув халат, Сологуб спрятал котенка на груди. Лицо его приняло умиленное выражение. – Я его вчера на лестнице нашел. Дворничиха четырех котят уже утопила, а этот неизвестно как добрался до ступенек и мяучит, жалуется. Я нагнулся, взял его, а он открыл ротик и стал сосать мой мизинец. Язык у него шершавый, теплый. И так странно вдруг я себя почувствовал. Будто во мне что-то утробное зашевелилось где-то там внутри. Что-то такое влажное, материнское, женское. Нет, даже кошачье. Во всем теле отдалось. Смешно и странно. Я хотел положить котенка на ступеньку и не могу. Жаль мне его. Ведь утопят. Принес его домой. И вот второй день вожусь с ним. Он меня уже узнает, такой шустрый.
Гумилев, начав с похвал котенку: «Да, удивительный котенок», – перешел к делу. Сологуб благосклонно согласился.
– С удовольствием, с большим удовольствием дам. Вот, выбирайте любые стихи. – И он протянул Гумилеву красную сафьяновую тетрадь. – Сколько хотите – берите, берите!
Обрадованный Гумилев стал громко читать стихотворение за стихотворением и восхищаться ими.
– Если позволите, эти пять. И как мы вам благодарны, Федор Кузьмич. Это такое украшение для нашего альманаха. Как мы вам благодарны...
– Но, к сожалению, – Городецкий откашлялся и продолжал быстро, – к большому нашему сожалению, мы можем платить только по семьдесят пять копеек за строчку. Конечно, для вас это не играет роли, но мой долг предупредить...
Лицо Сологуба вдруг снова окаменело.
– В таком случае... – Он не спеша, но решительно протянул руку и отнял тетрадь у растерявшегося Гумилева. – Анастасия Николаевна, принесите, там на рояле стихи лежат, – крикнул он в зал.
Дверь отворилась, и вошла Анастасия Николаевна с двумя листками в руке.
– Вот эти могу дать по семьдесят пять. А остальные, извините...
Опешившие Гумилев и Городецкий поспешно откланялись и покинули квартиру Сологуба. Только на лестнице они прочли стихотворения, полученные для альманаха. Я запомнила строфу из первого:
Второе кончалось загадочной строкой: «Не поиграть ли нам в серсо?», не имевшей никакого отношения к содержанию стихотворения и даже ни с чем не рифмовавшейся. Гумилев, недоумевая, взглянул на Городецкого:
– Что же это значит, Сергей Митрофанович? Объясни, пожалуйста.
Но Городецкий безудержно хохотал, держась за перила, чтобы не скатиться с лестницы.
«Не поиграть ли нам в серсо?» – повторяли потом в течение многих месяцев члены Цеха в самых разнообразных случаях жизни. А альманах, для которого предполагались эти стихотворения, так и не вышел.
– А что стало с котенком? – спросила я, выслушав Гумилева. Но о дальнейшей судьбе котенка Гумилев ничего не знал.
В январе 1921 года Гумилев решил издавать журнал Цеха поэтов «Новый Гиперборей» – на гектографе. Стихи в нем появлялись в автографах с «собственноручными графиками» членов Второго цеха.
Всего было выпущено четыре тетрадки, все обозначенные «№ 1». Для радости библиофилов, по определению Гумилева: «Известно – библиофил особенно ценит первый номер журнала. Вот мы ему и потрафим». Гумилев сам шил тетрадки «Гиперборея», хотя, как он утверждал, хуже владел иглой, чем саблей.
– А все же, – самодовольно говорил он, – красиво получается!
В первом «№ 1» появились «Перстень» Гумилева, «В меланхолические вечера» Георгия Иванова и мой «Поэт»: «Белым полем шла я ночью», явно написанный о Гумилеве.
Мандельштам, увидев мой рисунок, неодобрительно покачал своей «отягченной баками головой».
– Польстили, не в меру польстили вы вашему мэтру! Какой он у вас молодой, элегантный!
– Я и не думала рисовать Гумилева, – защищалась я. – Я не умею схватывать сходства. Ведь мой поэт совсем, совсем не похож на Гумилева.
– Мы-то это знаем. А те, кто не видел, будут думать, что он такой. Грех на вашей душе.
Но тут возмутился Гумилев:
– Я вовсе не желаю быть похожим на вашего конфетного поэта. Даже отдаленно. Не желаю!
– Тогда, – советует Мандельштам, – подпиши под «Поэтом»: «Не с меня рисован. Я совсем не такой. Даже напротив. Н. Гумилев».