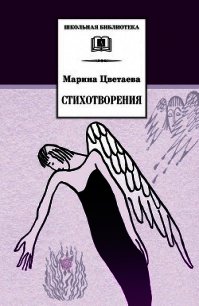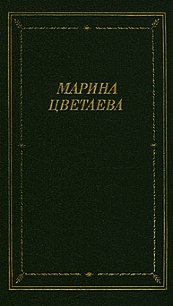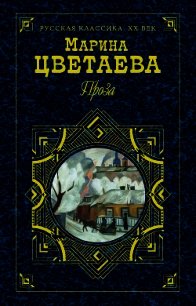Одноколыбельники - Цветаева Марина Ивановна (читать лучшие читаемые книги .TXT, .FB2) 📗
10 ноября 1938
Я (…) (в первый раз в жизни!) читаю все газеты, и первый вопрос Муру, приходящему с газетой: «А что с Чехией?».
26 декабря 1938
Я никогда, ни-ког-да, ни разу не жалела, что мне не двадцать лет. И вот – в первый раз за все свои не-двадцать – говорю: Я бы хотела быть чехом – и чтобы мне было двадцать лет: чтобы дольше – драться.
Марина Цветаева – Анне Тесковой
1936, 7 июня (продолжение)
Сергея Яковлевича держать здесь дольше не могу – да и не держу – без меня не едет, чего-то выжидает (моего «прозрения») – не понимая, что я – такой умру.
Я бы на его месте: либо-либо. Летом еду. Едете?
И я бы, конечно, сказала: да, ибо – не расставаться же. Кроме того, одна я здесь с Муром пропаду.
Но он этого на себя не берет, ждет, чтобы я добровольно – сожгла корабли (по нему – распустила все паруса).
Сергей Эфрон
Сергей Эфрон – Марине Цветаевой и сыну[234]
октябрь 1937. Записка:
Мариночка, Мурзил, обнимаю вас тысячу раз. Мариночка, эти дни с Вами – самое значительное, что было у нас с Вами. Вы мне столько дали, что и выразить невозможно. Подарок на рождение!!! Мурзил – помогай маме. (Внизу – рисунок льва.)
Марина Цветаева
Марина Цветаева – Ариадне Берг
26 октября 1937
Дорогая Ариадна,
Если я Вам не написала до сих пор – то потому, что не могла. (…) совершенно разбита событиями, которые (…) беда, а не вина. Скажу Вам, как сказала на допросе.[235]
– C’est le plus loyal, le plus noble et le plus humain des hommes. – Mais sa bonne foi a pu être abusée. – La mienne en lui – jamais.
(Он самый честный, самый благородный, самый человечный человек. Его доверие могло быть обмануто. Мое к нему – никогда – франц.).
Марина Цветаева – Анне Тесковой
17 ноября 1937
Отвечаю сразу: Сергей Яковлевич ни при чем: так, как он жил с нами этим летом на море, мог жить только человек со спокойной совестью, а он – живая совесть (…) я его знаю с 5-го мая 1911 г, то есть 26 лет. Полиция мне в конце допроса, длившегося с утра до позднего вечера, сказала – если бы он был здесь, он бы остался на свободе, – он нам необходим только как звено дознания.
Это у следователя, изведенного за долгий день не меньше меня (…) вырвалось. (…) Словом, дорогая Анна Антоновна, будьте совершенно спокойны: ни в чем низком, недостойном, бесчеловечном он не участвовал[236]. Вы помните его глаза? С такими глазами умирают, а не убивают. Над ним еще в армии смеялись, что всех спасает от расстрела. Он весь – свои глаза.
7 июня 1939
Дорогая Анна Антоновна! (…) Это – мой последний привет. Все дни – бешеная переписка, и разборка, и укладка, и бешеная жара (бешеных собак), в обычное время я бы задыхалась, но сейчас я и так задохнулась всем и, как йог, ничего не чувствую. Жалею Мура, который – от всего – извелся – не находит себе места – среди этого развала. Ну – скоро конец, а конец – всегда покой. (Конца – нет, п. ч. сразу – начало).
Спасибо за ободрение, Вы сразу меня поняли (…) выбора не было: нельзя бросать человека в беде, я с этим родилась…
Часть шестая – заключительная. Возвращение в Россию. Гибель
Москва
Марина Цветаева
Из последних Записных книжек
18 июня приезд в Россию. 19-го в Болшево, свидание с больным С. Неуют. За керосином, С. покупает яблоки. Постепенное щемление сердца (…).
Обертон – унтертон всего – жуть. (…) И непривычный деревянный пейзаж. Отсутствие камня, в данном случае – отсутствие просто устоя.
Болезнь С. Страх его сердечного страха. (…) Не за кого держаться. Начинаю понимать, что С. бессилен совсем, во всем. (Разворачиваю рану. Живое мясо. Короче:)
27-го в ночь арест Али…
Марина Цветаева – Л.П. Берии[237]
23-го декабря 1939 г. Голицыно, Белорусской ж<елезно>й д<ороги> Дом отдыха писателей
Товарищ Берия,
Обращаюсь к Вам по делу моего мужа, Сергея Яковлевича Эфрона-Андреева, и моей дочери – Ариадны Сергеевны Эфрон, арестованных: дочь – 27-го августа, муж – 10-го октября сего 1939 года.
Но прежде чем говорить о них, должна сказать Вам несколько слов о себе.
Я – писательница, Марина Ивановна Цветаева. В 1922 г. я выехала за границу с советским паспортом и пробыла за границей – в Чехии и Франции – по июнь 1939 г., т. е. 17 лет. В политической жизни эмиграции не участвовала совершенно, – жила семьей и своими писаниями. Сотрудничала главным образом в журналах «Воля России» и «Современные записки», одно время печаталась в газете «Последние новости», но оттуда была удалена за то, что открыто приветствовала Маяковского. Вообще – в эмиграции была и слыла одиночкой. («Почему она не едет в Советскую Россию?») В 1936 г. я всю зиму переводила для французского революционного хора (Chorale Révolutionnaire) русские революционные песни, старые и новые, между ними – Похоронный марш («Вы жертвою пали в борьбе роковой»), а из советских – песню из «Веселых ребят», «Полюшко – широко поле» и многие другие. Мои песни – пелись.
В 1937 г. я возобновила советское гражданство, а в июне 1939 г. получила разрешение вернуться в Советский Союз. Вернулась я, вместе с 14-летним сыном Георгием, 18-го июня 1939 г., на пароходе «Мария Ульянова», везшем испанцев.
Причины моего возвращения на родину – страстное устремление туда всей моей семьи: мужа – Сергея Эфрона, дочери – Ариадны Эфрон (уехала первая, в марте 1937 г.) и моего сына Георгия, родившегося за границей, но с ранних лет страстно мечтавшего о Советском Союзе. Желание дать ему родину и будущность. Желание работать у себя. И полное одиночество в эмиграции, с которой меня давным-давно уже не связывало ничто.
При выдаче мне разрешения мне было устно передано, что никогда никаких препятствий к моему возвращению не имелось.
Если нужно сказать о происхождении – я дочь заслуженного профессора Московского университета, Ивана Владимировича Цветаева, европейской известности филолога (открыл одно древнее наречие, его труд «Осские надписи»), основателя и собирателя Музея изящных искусств – ныне Музея изобразительных искусств. Замысел музея – его замысел, и весь труд по созданию музея: изысканию средств, собиранию оригинальных коллекций (между ними – одна из лучших в мире коллекций египетской живописи, добытая отцом у коллекционера Мосолова), выбору и заказу слепков и всему музейному оборудованию – труд моего отца, безвозмездный и любовный труд 14-ти последних лет его жизни. Одно из ранних моих воспоминаний: отец с матерью едут на Урал выбирать мрамор для музея. Помню привезенные ими мраморные образцы. От казенной квартиры, полагавшейся после открытия музея отцу, как директору, он отказался и сделал из нее 4 квартиры для мелких служащих. Хоронила его вся Москва – все бесчисленные его слушатели и слушательницы по университету, Высшим женским курсам и консерватории, и служащие его обоих музеев (он 25 лет был директором Румянцевского музея).
Моя мать – Мария Александровна Цветаева, рожд<енная> Мейн, была выдающаяся музыкантша, первая помощница отца по созданию музея и рано умерла.
Вот – обо мне.