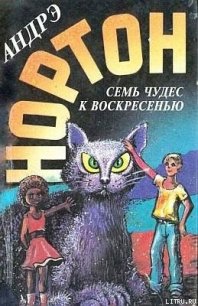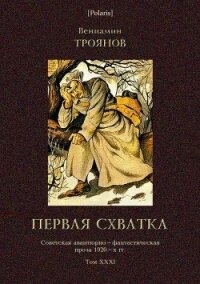Прощай, «почтовый ящик»! Автобиографическая проза и рассказы - Врублевская Галина Владимировна
Другие уроки, полученные мною на зимней улице, учили нравственным законам.
В 50-е годы прошлого века дворники, убирая снег с тротуаров и мостовой, сгребали его вручную лопатами. А дальше использовалось механическое приспособление – широкий лист фанеры с привязанной к нему, как к саням, веревочной петлей. Снег накидывался на фанеру, и дворники – всюду женщины, – впрягаясь в животом в скользкую петлю, волокли фанеру со снежной горой вдоль улицы в сторону канала. И вновь орудуя лопатой, перекидывали снег через ажурную решетку, все на тот же непрочный лед.
Частенько дети – числом от трех до пяти – впрягались вместе с любимой «дворничихой» тетей Катей в импровизированные «сани» и тащили груженную снегом фанеру, налегая грудью на веревку. Помните крестьянских ребятишек с картины Перова «Тройка»? И как весело было на обратном пути гурьбой повалиться на холодную, пятнистую от прилипшего снега фанеру, и добрая тетя Катя в одиночку волокла ее и нас впридачу. Мы радостно визжали на всю округу.
Так делалось несколько ходок. Вновь снежная гора за спиной на фанере – и вновь радостная кутерьма вверх тормашками. «Любишь кататься, люби и саночки возить», – эту пословицу я пропустила через себя! Кристаллики снега, налипшего на варежки и рейтузы, как крупинки счастья, до сей поры сверкают в моей душе.
А вот как я узнала о том, что внутреннее не всегда равновелико внешнему.
Наша ватага, бегая по улице, любила заглядывать в низкие оконца производственных помещений. Ведь мы уже понимали, что в комнаты заглядывать нехорошо, к тому же окна жилых квартир, хотя и располагались тоже низко, были занавешены плотными шторами. Зато окна всякого рода контор были открыты взгляду прохожих. Ярко освещенные электричеством полуподвалы просматривались насквозь, как залитые светом аквариумы.
Так мы обнаружили, что в скромном двухэтажном доме на углу (Ср. Подьяческая, дом?1) размещается фабрика по изготовлению клавишных инструментов. До той поры я видела пианино мельком, в комнате у соседей, и оно казалось мне инструментом, похожим на барабан – только барабанчиков – клавиш – было много. Так вот: замерев перед низкими окнами ярко освещенного цеха, прилипнув любопытными носами к стеклам, я впервые увидела «раздетые» пианино – без ящика.
Пианино стояли, как скелеты без кожи: открытые взору струны, молоточки, деревяшки, обклеенные фетром. Этот цех оказался для меня в сто раз интереснее сломанной игрушки. Очередное открытие: музыкант ударяет по клавишам-барабанчикам, а играют, оказывается, молоточки, стуча по струнам.
Через несколько лет, когда я уже ходила в средние классы школы, цех по изготовлению пианино куда-то переместился, а в просторном полуподвале поставили ряды швейных машин. Теперь, заглядывая в низкие окошки, мы видели работниц в одинаковых темных косынках, повязанных узлом позади шеи. Склонившись над машинками, они строчили полотняные бюстгальтеры – теперь здесь располагался филиал швейной фабрики «Трибуна». Эта перемена профиля производства синхронно совпала с годами моего отрочества – вот она, сакральная Книга Перемен – я только-только начала обращать внимание на дамское нижнее белье. И помню как нас, на тот момент одиннадцатилетних девчонок, смешили горы готовой продукции. Чашки лифчиков нам казались необъятными: мы ни за что бы не поверили, что всезнающие небеса показывают наше будущее.
Дом, что стоял напротив двухэтажного фабричного цеха, фасадом выходил на канал. И выглядел этот красавец в сравнении со своим низкорослым визави настоящим замком: старинный особняк цвета нежной охры с полукруглым эркером, украшающим фасад, с башенкой и шпилем, взлетающими над куполом крыши. И, должно быть, с высоченными потолками – три этажа этого дворца по высоте равнялись пяти обычным. Парадный вход в четыре дверных полотна, огромные окна – рамы без переплетов – завешанные «театральными» волнистыми шторами; железные ворота, тоже всегда наглухо запертые. Это здание и поныне украшает небогатую архитектурными изысками улицу моего детства.
Дотянуться до высокого бельэтажа было невозможно даже на цыпочках, даже встав на плечи друг к другу. И было невозможно увидеть, а что же там внутри. Вывески у входа тоже не было, но всем откуда-то было известно, что в здании находится секретный институт по судостроению. Секреты в те годы были всюду. Однако и мы, дети, знали, что в здании «делают чертежи кораблей».
Я еще не задумывалась о выборе профессии и примеряла на себя разве что роль учительницы младших классов, беззаветно преклоняясь перед собственной учительницей, но в итоге моя профессия оказалась связана именно с корабельной наукой. Ведь прежде, чем всецело посвятить себя литературным трудам, я исследовала формулы морских глубин.
На противоположном конце улицы, в подвале углового дома, находилась булочная. Там я училась совершать покупки: отдать деньги, получить сдачу, не уронить горбушку-довесок. Я застала еще развесную продажу хлеба: продавщица, подкладывая маленькие кусочки хлеба к основной части, добивалась равновесия двух чаш весов – на второй чашке стояли чудесные, как железные солдатики, гирьки. Довесок был моей законной премией и съедался на обратной дороге к дому.
Примерно в это же время у меня появились первые карманные деньги, сэкономленные на школьных завтраках или утаенные из «сдачи». И я стала совершать покупки не «под заказ», а для себя лично. Чаще всего – дешевые конфеты без фантиков: ириски, леденцы, «подушечки». Когда у меня набиралась мелочь, равная цифре на ценнике – за сто граммов конфет – я протягивала ее продавщице и получала заветный кулёчек.
Однако меня манил большой «гастроном» напротив булочной, хотя о нем мне запрещалось и думать. Ведь чтобы попасть в «гастроном», следовало перейти проспект Римского-Корсакова с оживленным автомобильным движением. И этот запрет я нарушала тоже, каким-то чудом проскакивая на другую сторону улицы под носом у мчащихся машин (мне было семь или восемь лет) – отдельное спасибо внимательным водителям! Тот магазин был для меня так притягателен, как, думаю, для нынешних детей – супермаркет.
Итак, я входила в торговый зал и сворачивала к высоким стеклянным витринам кондитерского отдела – эра магазинов самообслуживания была еще впереди. Я с вожделением рассматривала насыпанные в аккуратные вазочки недоступные мне сладости: плиточки в плотных фантиках («Мишки» и «Белочки»), батончики шоколада, и россыпи конфет, закрученных в блестящую фольгу. Где-то в уголке виднелись и подушечки с ирисками, совсем такие же, как в моей булочной, но меня ужасали цены в этом магазине. Я долго не могла понять, почему все сладости стоили здесь на порядок дороже. За какие-нибудь «подушечки» (в булочной они стоили 1 руб. 40 коп.) здесь требовалось уплатить 14 руб. Прошло немало времени, прежде чем я разобралась, что в «гастрономе» указана цена за килограмм, а в булочной за сто граммов. А переводить «страшные» цены за килограмм в приемлемые за маленький кулек я научилась и того позже: классу к третьему-четвертому – мое первое применение в жизни школьных знаний. Несмотря на физическую бойкость, общаться со взрослыми я стеснялась, не решалась спросить продавщицу, хватит ли моей мелочи на заветную конфетку.
На этом же конце Подьяческой улицы, где находилась моя первая булочная, начиналась и дорога к храму – только сворачивать следовало за другой угол. Дальше, будто нарочно, чтобы затруднить поиск божественной сути, все улицы имели двойное название: старое и новое.
Канал Грибоедова, петляя вокруг трех сестер, трех Подьяческих улиц (Малой, Средней и Большой) услужливо раскинул Комсомольский мост по дороге в церковь, всех выводя на площадь Коммунаров. Этими убойными названиями власть пыталась отвадить от религии комсомольцев и жителей коммунальных квартир. К счастью, выстоял сам храм: небесно-голубой, с золотыми куполами, с якорями на колоннах ограды – Никольский Морской собор. А теперь, как и до революции семнадцатого года, люди вновь идут в Никольскую церковь через Харламов мост и Никольскую площадь.