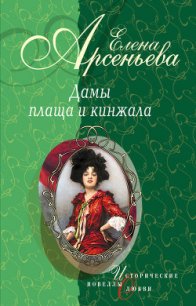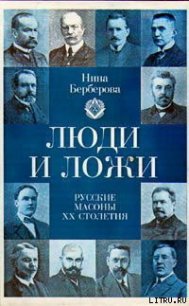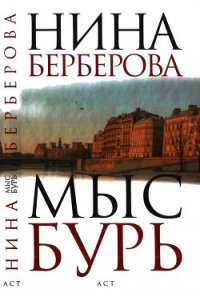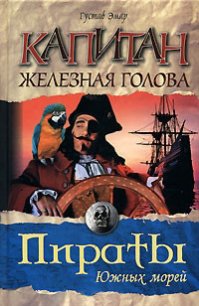Железная женщина - Берберова Нина Николаевна (онлайн книги бесплатно полные TXT) 📗
«Закоулки сердца» и «Долорес» не единственные романы, где Уэллс выразил себя в личном и любовном аспекте. В «Клиссольде» и в «Великолепном исследовании» он пытается дать все ту же философию любви, основанную на опыте с Ребеккой, а в «Братьях» уже звучат ноты любви к Муре. Но в эти первые годы своей свободы он главным образом был занят мучительной для него и все более отпугивающей читателя публицистикой, в которой впервые появились саркастические и истерические настроения. Он подходил к ним близко уже в 1928 году, когда пытался дать схему мировой революции (подзаголовок одной его книги), и в «Легальном заговоре», где люди, готовые защищать будущее цивилизованного мира, должны были войти в открытое, но в то же время и тайное общество избранных и бороться за свет против тьмы, за атеизм против суеверий, за радикализм против реакции; в брошюре 1932 года «После демократии» он требовал немедленно решить вопрос, что делать после того, как мир поймет и оценит его идеи, и последует за ними, и осуществит его идеал. А еще через год, в «Облике грядущего», он вернулся к своей старой идее утопического романа («Современная утопия» была им написана в 1905 году), где народами правят пуританские тираны.
По роману «Облик грядущего» год спустя в Голливуде был сделан многомиллионный фильм, в котором космонавты, инопланетные жители и межпланетные сообщения играли полуфантастическую, полуутопическую роль. Неудивительно поэтому, что в эти годы он стал принимать активное участие в создаваемых им самим прогрессивных федерациях, обществах и группах, где проповедовал идеи «самураев», «Нового Иерусалима» и «обновленных республиканцев». Он терял к ним интерес так же быстро, как создавал их.
Это были годы всевозможных радикальных конгрессов в Амстердаме, Париже и других столицах Европы, куда он посылал приветственные телеграммы, протестуя в печати против фашизма, нацизма, вооружений и бездействия Лиги Наций. Он оказался председателем ПЕН-клуба и там тоже старался влиять на писателей, поэтов и критиков, ежеминутно повышая свой и без того высокий голос, стараясь убедить их в пользе прогресса и в ничтожестве эстетики и всяческого искусства и сердясь на слушателей и собеседников, большинство которых относилось к этим вопросам равнодушно.
В таких настроениях он в 1934 году решил поехать в США переговорить с Рузвельтом, и в Советский Союз – повидать Сталина. Белый Дом произвел на него сильное впечатление «мозговым трестом», который он там встретил. Со Сталиным разговора не вышло, как и с Лениным четырнадцать лет тому назад. По заранее обдуманному плану, он сначала решил прочесть Сталину лекцию о состоянии мира. Но Сталин слушал его (через переводчика) плохо и явно скучал. Когда Уэллс спросил, что Сталин хочет поручить ему передать Рузвельту, Сталину сказать было нечего. Уэллс хотел быть «почтальоном при почте амура двух гигантов», но из этого ничего не вышло.
Однако самое большое разочарование ждало его при встрече с Горьким, приехавшим окончательно в Россию год тому назад. Горький, по словам Уэллса, оказался «сталинистом, защищающим все, что делает Сталин». Как председатель международного ПЕН-клуба Уэллс заговорил о «всемирном братстве писателей и людей науки», но Горький ответил, что за этой идеей кроется намерение Уэллса «помочь белоэмигрантам вернуться на родину и начать здесь антисоветскую пропаганду».
Восхищение Уэллсом начало пропадать у Горького еще в начале 1920-х годов, когда в одном из своих писем Крючкову он писал: «Не посылайте мне книг Уэллса, надоел. Он пишет все хуже». Горький, писал Уэллс впоследствии, «свирепо уверен в правоте своего советского патриотизма и даже отвергает – среди других свобод и прав человека – контроль над рождаемостью, право женщин не иметь детей!»
Мура ждала Уэллса в Эстонии. Год назад была их первая общая летняя поездка в Дубровник, где они вместе были на конгрессе ПЕН-клуба, а потом провели две недели в Австралии. Теперь она ждала его в Эстонии, она хотела ему показать эту страну, где слишком многое было связано с ее собственной судьбой. Он приехал из Москвы раздраженный, злой, разочарованный, говоря, что русские его предали. Как он позже писал: «На берегу прелестного маленького озера, в дружеском доме, я закончил свою автобиографию». Это были счастливые дни.
Стояло лето. В полном уединении прошло две недели, без людей, без писем, без телефонов и даже без газет. Они вернулись в Лондон вместе, она поселилась в двух шагах от него. Она сказала ему, что останется с ним столько, сколько он захочет, но замуж за него не выйдет никогда.
Беатриса и Сидней Уэбб, старые его друзья, социалисты, знавшие его с молодости, и другие, начиная с сыновей Уэллса и их жен и кончая Бернардом Шоу, бывавшие в его доме во Франции, знавшие про разрыв с Одетт, были поражены. Но разговоры, долго не утихавшие, все сводились к одному – это не прочно. Беатриса писала в своем дневнике: «Шоу сказал мне, что Эйч-Джи озабочен и болен: он попал под очарование „Муры". „Да, она останется со мной, будет есть со мной, спать со мной, – хныкал он, больной от любви, – но она не хочет выходить за меня замуж!" Эйч-Джи, понимая, что приближается старость, хочет купить страховку на дожитие, женившись. „Мура", помня все его прошлые авантюры, отказывается расстаться со своей независимостью и со своим титулом. Нечему удивляться!»
Между тем, кое-какие настроения Уэллса в последние годы его жизни совпадали с настроениями Горького. Горький доводил до гротеска то, что Уэллс проповедовал в умеренной форме: как Уэллс носился с планом всемирной энциклопедии, где раз и навсегда будет объяснено грамотным, полуграмотным и неграмотным, что такое мир, и человек, и демократия, и цивилизация, и братство народов, так и Горький был теперь занят мыслью, жившей в нем с 1905 года, о «культуре для всех». Он считал, что осуществить это возможно путем, во-первых, энциклопедии, затем – написанными лучшими писателями современности простым языком биографиями великих людей прошлого, затем – переизданием величайших классиков всех народов, заново переписанных специальным штатом талантливых переводчиков для всеобщего понимания. Он сам выберет переводчиков и авторов; переводчики засядут переписывать и переводить Гомера, Шекспира, Данте, Гете и Пушкина на все существующие языки… В 1933 году, когда он поселился в Москве, он стал замечать, что советские писатели с именами постепенно начинают избегать его. Он не связывал этого обстоятельства со своим проектом, который должен был стать обязательной нагрузкой для всех без исключения людей, умеющих держать перо в руках. Но те, которые были обеспокоены, что их могут насильно запрячь в работу, которая вначале еще не казалась им больным безумством Горького, а только его преходящим капризом, старались не попадаться ему на глаза. Замятин мягко писал (в 1924 году) о Горьком 1919 года, когда обсуждались первые шаги «Всемирной литературы»: «Трудно было починить водопровод, построить дом, но очень легко Вавилонскую башню: „Издадим Пантеон литературы российской, от Фонвизина до наших дней. Сто томов!" Мы, может быть, чуть-чуть улыбаясь, верили, или хотели верить… Образовалась секция исторических картин: показать всю мировую историю, не больше, не меньше. Придумал это Горький».
Еще в 1928—1929 годах он стал редактором или членом редколлегий десятка периодических изданий, целыми днями и ночами правя чужие рукописи, присланные ему из провинции, с заводов и из совхозов, расставляя запятые, исправляя русский язык, а затем писал авторам длинные письма, где объяснял, почему автору следует учиться и почему ему следует продумать то ли иное свое произведение. После этого он отсылал это сочинение в один из подопечных ему журналов, где оно либо печаталось, либо шло в корзину за отсутствием места.
Одно легкое Горького давно уже не действовало, в другом шел разрушительный процесс. Каждые два года, а то и чаще, начиналось кровохарканье, все чаще и чаще бывал жар, его мучил непрестанный кашель. Но он, живя в Москве, или в Горках, или зимой в Крыму, продолжал сидеть за столом с карандашом в руке, так что последний (четвертый) том «Жизни Клима Самгина» так и остался недописанным. Цель этого романа была «глобальная»: в 1926 году, когда Горький приступил к нему, он писал А. К. Воронскому, тогда еще редактору «Красной нови», позже репрессированному: «Я должен изобразить все классы. Не хочется пропустить ничего».