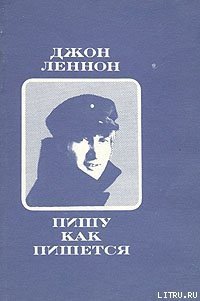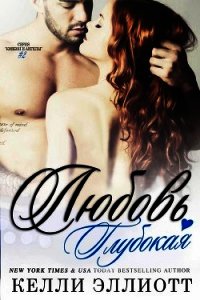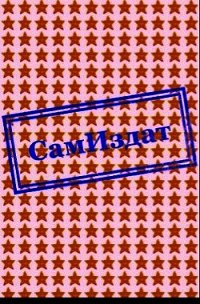На берегах Невы - Одоевцева Ирина Владимировна (книга жизни TXT) 📗
Анненков показал мне уже сделанные им портреты Анны Ахматовой, Замятина и Сологуба, предназначавшиеся для его книги. Между прочим, и портрет Георгия Иванова.
– У него на редкость интересное лицо, – сказал он. – Совсем особенное. Да он и сам особенный.
Телефон беспрерывно звонил, отрывая Анненкова от работы.
– Нет, нет, никак не могу, – раздраженно отвечает он на клекот, доносящийся до меня. – Цена? Дело не в цене, а в том, что у меня нет времени. Понимаете, нет времени. – И уже повесив трубку, добавляет: – И желания нет, сколько бы мне ни заплатили.
Я позировала Анненкову больше двух часов. Я терпеть не могу позировать, мне тяжело и скучно сидеть неподвижно и чувствовать на себе внимательный, будто ощупывающий меня взгляд.
Но с Анненковым я не чувствовала ни скуки, ни тяжести. Мне даже жаль, что сеанс уже кончен и надо уходить.
Следующий назначен на понедельник.
Я ухожу, не увидав наброска.
– В следующий раз покажу, а сейчас нельзя. Так не забудьте. В понедельник, в три.
Я смеюсь.
– У меня память хорошая. Да если бы и плохая была, все равно не забыла бы. Ведь мне очень лестно, что мой портрет будет в вашей книге. Будьте спокойны – приду, Юрий Павлович.
Но я не пришла. В тот же вечер меня телеграммой вызвали в Москву к моему опасно заболевшему брату.
А когда я через полтора месяца вернулась в Петербург, Анненкова там не было. Он куда-то уехал. Книга вышла без моего портрета, о чем я еще и сейчас жалею.
Но в книге в перечне портретов он указан.
Лето 1921 года. Москва.
Я гощу у брата и, как здесь полагается, живу с ним и его женой в одной комнате, в «уплотненной» квартире на Басманной.
У нас в Петербурге ни о каких «жилплощадях» и «уплотнениях» и речи нет. Все живут в своих квартирах, а если почему-либо неудобно (из-за недействующего центрального отопления или оттого, что далеко от места службы), перебираются в другую пустующую квартиру: их великое множество – выбирай любую, даром, а получить разрешение поселиться в них легче легкого.
Здесь же в квартире из шести комнат двадцать один жилец – всех возрастов и всех полов – живут в тесноте и обиде.
В такой тесноте, что частушка, распеваемая за стеной молодым рабочим под гармошку, почти не звучит преувеличением:
Большинство жильцов давно перессорились. Ссоры возникают главным образом на кухне между жилицами, мужья неизменно выступают на защиту жен, и дело часто доходит до драки и, во всяком случае, до взаимных обид и оскорблений.
Ко мне как к элементу пришлому и, главное, временному здесь относятся довольно гостеприимно.
Мне совсем не нравится в Москве, несмотря на то что меня закармливают всякими вкусностями. Но мне скучно. К тому же, что меня удивляет и огорчает, жена моего брата ревнует его ко мне. Я бы уже уехала домой, но боюсь огорчить брата, всячески старающегося угодить мне.
Сейчас он на службе, а его жена ушла на рынок за покупками. Я одна, и это очень приятно.
Я берусь за свою новую балладу, как всегда, когда остаюсь одна.
Дверь не хлопает, а отворяется без предварительного стука. В нее просовывается голова молодой беременной соседки, жены того самого рабочего, что распевает частушки. Она почему-то зауважала меня, должно быть, за то, что я «из Питера». Она поверяет мне свои семейные тайны и советуется со мной, как с оракулом, о самых разнообразных предметах.
Так, она спросила меня сегодня утром в коридоре: «Правда ли, скажите, Ленин издал декрет, что нам, пролетаркам, носить всего шесть месяцев, а буржуйкам двенадцать?»
На что я, чтобы не разбивать ее иллюзий, уклончиво ответила, что о таком декрете еще не слыхала.
– Там вас какой-то гражданин спрашивает, – звонко заявляет она.
Меня? Должно быть, ошибка. Я никого здесь не знаю.
– Вестимо вас. Гражданку Одоевец из Питера.
Я бросаю карандаш и тетрадку и бегу в прихожую.
У окна стоит Гумилев, загорелый, помолодевший, улыбающийся, в белой парусиновой шляпе, лихо сдвинутой набок.
– Что, не ожидали? – приветствует он меня. – Нелегко было вас найти. Я боялся, что вас дома не застану. И что тогда делать?
Я так удивлена, что даже не чувствую радости. Нет, я совсем не ожидала его. Мы расстались с ним около месяца тому назад. Я уехала к брату в Москву, а он отправился с Неймицем в черноморское плавание.
Я веду его в нашу комнату и усаживаю на диван, служащий мне постелью.
– Как же вы меня разыскали?
– Я ведь хитрый, как муха, – отвечает он весело.
Это хвастливое «хитрый, как муха» показатель его особенно хорошего настроения.
– Я только утром приехал и завтра пускаюсь в обратный путь, домой. Но сегодня, – он поднимает указательный палец, – я все же задам пир на весь мир. Быстрота и натиск. Буду вечером выступать в Доме искусств. Ну, конечно, как же без вас? К тому же тут Сологуб со своей Анастасией Николаевной. Он тоже придет на мой вечер. Я вас с ним познакомлю. Ах, как я чудесно плавал...
И, перебивая себя, оглядывает комнату.
– Вам здесь тяжело, да? Слишком мало пространства, и предметы все какие-то будничные, лишенные души. Вот эта ширма – от нее скука и даже страх. Здесь нельзя писать стихи. Ведь вы, наверное, за все это время ничего не написали?
Я киваю:
– Все бьюсь над одной и той же балладой. Никак не могу кончить.
Он торжествует:
– Я так и знал. Здесь вам не хватает пространства, главное, психологического пространства. Эта ужасная скученность людей и вещей – скученность скуки. Вам надо как можно скорее вернуться домой: завтра, самое позднее послезавтра. Брат огорчится? Вздор. Нечего ему огорчаться.
И вот уже вечер – «Вечер Гумилева в Доме искусств».
Но определение «пир на весь мир» совсем не подходит ему.
Гумилев выступает не в большом зале, где обыкновенно проходят литературные вечера, а в каком-то маленьком длинном помещении, заставленном рядами стульев. Даже эстрады нет. Гумилев сидит за столиком на расстоянии аршина от первого ряда.
Но он, по-видимому, легко переживает это «отсутствие пространства», эту «скучную скученность» и, попирая «скудные законы естества», чувствует себя триумфатором и победителем.
Слушателей немного, и они – это как-то сразу чувствуется – настроены не в унисон Гумилеву. Стихи его не «доходят» до слушателей.
Рядом со мной Сергей Бобров, автор «Лиры лир», как всегда взъерошенный, несмотря на духоту и жару, в зеленом измятом непромокаемом пальто. Он криво усмехается, не скрывая презрения.
В Москве нас, петербуржцев, презирают, считают «хламом и мертвечиной», о чем мне без стеснения и обиняков было заявлено при первом моем посещении Союза поэтов:
– Все у вас там мертвецы, хлам и бездарности. У вас только одна Одоевцева. Да и то...
И когда я, покраснев, призналась, что я и есть «эта Одоевцева, да и то...», мне не поверили, пока я в доказательство не предъявила своей трудкнижки.
Впрочем, и тогда ко мне отнеслись без энтузиазма.
Я оглядываю слушателей. Они не похожи на наших петербургских – какие-то молодые люди кокаинистического типа, какие-то девушки с сильно подведенными глазами, в фантастических платьях и шляпах.
В первом ряду Сологуб. Я сразу узнаю его по портрету Юрия Анненкова. Он совсем такой, как на портрете. Нет, не совсем. Там он все-таки кажется менее застывшим и неподвижным. Менее неживым.
«Кирпич в сюртуке», как его называют. Но он не похож на кирпич. Кирпич красный. И грубый. А он беломраморный и барственный, как вельможи времен Екатерины Великой. Он скорее напоминает статую. Надгробную статую. Каменного Гостя. Памятник самому себе.