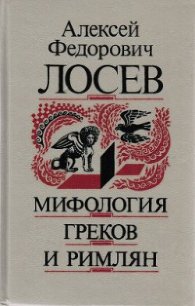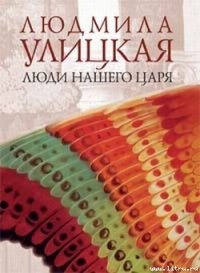Лосев - Тахо-Годи Аза Алибековна (мир книг .txt) 📗
Однако нечего заглядывать в будущее, оно еще неизвестно ни Лосевым, ни мне. Мы живем в послевоенные, 40-е годы. Важно, что послевоенные. Они вселяют надежду. Алексей Федорович исподволь, систематически, как он это делал всегда, опять взялся за античную эстетику, заново, начиная с Гомера, с самых истоков. Лосеву важна строгая логика и система, от истоков великой античной культуры до ее завершения, от язычества к христианству, когда в 529 году византийский император Юстиниан закроет на веки вечные платоновскую Академию в Афинах, последний оплот языческой мудрости в мире нового христианского жизнетворчества.
Пишется «Эстетическая терминология ранней греческой литературы. Гомер. Гесиод. Лирики». Сидим за письменным столом, работаем, таскаем книги из всех библиотек Москвы, выписываем из Ленинграда, близко время, когда разрешат выписывать научные книги из-за границы через Академию наук, обновится и приумножится свое, домашнее книгохранилище.
А. Ф. все труднее писать самому, с глазами плохо. Заметки и записки пишем ему крупным шрифтом. Все, что обдумывается, заносится в тезисном виде в тонкие и толстые, еще довоенные тетради (их сохранилось много).
Одни из них предназначены для рефератов прочитанных книг, подробных конспектов – эти почерком А. Ф., уже угловатым, где буквы наезжают на буквы, или почти все моими каракулями, которые сама с трудом различаю. Книги, читанные мною на всех главных европейских языках, – я ими тогда увлекалась, и просто была необходимость. Все тетради целы, их роль сыграна. Спокойно лежат в левом ящике письменного стола.
Другие тетради – самые важные. По ним можно и теперь проследить разработки тем, которые лежали в основе многих книг А. Ф.; там же тезисы всех докладов с указанием года и числа; там же материалы для работы с аспирантами и даже переводы с русского на греческий и латинский знаменитых стихов, пушкинское «Я помню чудное мгновенье» или «То было раннею весной» – прелестного романса Чайковского. Там же библиографические списки к разным темам, записи новых книг, шифры библиотечные и многое другое. Страницы заполнены четким почерком (специально для А. Ф.) Валентины Михайловны, моим, а далее других помощников, так называемых секретарей, тех, кто писал под диктовку, иной раз много лет подряд, а то от времени до времени, по необходимости. Я их всех различаю по почеркам. Все они, правда, возникнут много позже, с 60-х годов (например, Г. В. Мурзакова с 1963 по 1973 год, не философ, не филолог, а просто образованный человек). Мы же еще только в 40-х.
Многие проходили лосевскую школу, хотя, казалось бы, работа механическая, пиши под диктовку, да читай, да в словари смотри. Ан, смотришь, и школа получается, а там и диссертация пишется, и научный работник вырастает.
Валентине Михайловне трудно справляться с потоком лосевских запросов, у нее полная ставка в Авиационном институте. Да и я уже сочиняю диссертацию под строгим надзором А. Ф. Значит, еще нужен помощник. Это близкий нам человек, студентка классического отделения Юдифь Каган, дочь М. И. Кагана, сотоварища Лосева по ГАХНу, философа-неокантианца, учившегося в Германии. Он близок М. М. Бахтину, М. В. Юдиной, сестрам Цветаевым, семье Флоренского. Умер безвременно в 1937 году, слава Богу, дома. Теперь вот немцы издают его сочинения и его архив стараниями моей милой подруги Юдифи, сохранившей вместе с матерью, Софьей Исааковной, все до мельчайшего листочка.
У Юдифи в те давние времена трудная жизнь в старинном деревянном доме в тишайшем Молочном переулке близ Зачатьевского монастыря, в двух комнатах коммуналки на втором этаже. В одной – рояль и принимают гостей, в другой – на столе у Юдифи «Столп» о. Павла, а под стеклом портрет величавого Моммзена («Это что, твой дедушка?» – выясняла ее сокурсница). Мы дружили, но спорили, и даже иной раз не разговариваем. А потом опять вместе. И непонятно, кто старше.
Я аспирантка, она студентка. Но во мне больше детского, а в ней взрослого. У нее свои отношения с Валентиной Михайловной. Иной раз на лекциях А. Ф. (Валентина Михайловна и я сопровождаем, идучи пешком на М. Пироговскую) они переписываются тайными записочками с очень смелыми мыслями о Боге, например. Друг другу абсолютно доверяют в эти опасные времена.
А. Ф. в память отца помог Юдифи поступить к нам, на отделение. Помню, как к нему приходила высокая, стройная черноволосая женщина с выразительным незабываемым лицом и низким голосом – Софья Исааковна. И Юдифь – черноволоса до блеска, прямой пробор, пучок, всегда строга и с хорошим вкусом. Вот она сидит в тяжелом кресле, пишет крупным, ясным почерком об эстетической терминологии, а я об Олимпийской мифологии, хотя иной раз меняемся ролями. Но дело идет. Обе работы будут напечатаны в скромном институтском издательстве в 1953–1954 годах. Первые после двадцатитрехлетнего перерыва.
Казалось бы, как просто и хорошо. Но это именно кажется. Пока забудьте о простоте и счастливом конце, что венчает дело.
Упорный А. Ф. Лосев понимает, что эстетический космос античных философов не по профилю, а проще – не «по зубам» кафедре классической филологии МГПИ имени Ленина, руководимой профессором Н. Ф. Дератани. Он разрабатывает подступы к классической эстетике, изучает ее истоки, то есть Гомера, Гесиода, лириков. Это самая настоящая литература, и кафедра вполне компетентна рассмотреть рукопись и рекомендовать ее к печати. Но дело в том, что на кафедре давно, уже года с 45-го, идет глухая, да и открытая борьба с идеалистом Лосевым. Собственно Лосева стремится выжить с кафедры Н. Ф. Дератани, как уже говорилось, единственный член партии среди старых ученых, специалистов по классической филологии.
Если бы Лосев тихо сидел и не вылезал со своими работами по античной эстетике, если бы не читал блестящих курсов греческой литературы и мифологии, если бы не увлекал студентов и аспирантов в высокую науку, если бы не разоблачал невежество рвавшихся в кандидаты наук членов партии, если бы не выступал на философских семинарах со своей неумолимой диалектикой, если бы не критиковал так называемые «труды» присных и прихлебателей Дератани, если бы дерзко не обращался в ответ на оскорбления в ЦК, то мертвенный мир господствовал бы на кафедре и Лосев не был бы Лосевым.
Но А. Ф. – человек самостоятельных и независимых взглядов, его голыми руками не возьмешь. Премудрость марксистская ему, прошедшему школу диалектики великих неоплатоников, Дионисия Ареопагита, Николая Кузанского и Гегеля, – детские игрушки. Ему ли трепетать перед IV главой «Краткого курса ВКП(б)», «Материализмом и эмпириокритицизмом», «Философскими тетрадями» Ленина, «Диалектикой природы» Энгельса и «Капиталом» Маркса? Все это Лосев изучил досконально, как он имел обычай сам во всем разбираться, и в науках, и в потугах на науку. Что-то взял на вооружение (одобрение гегелевской диалектики Лениным, учение о социально-экономических формациях), умел оперировать «священными» текстами, смело выставляя их в противовес противникам, и не боялся бить врагов, опираясь на их высшие авторитеты. Справиться с Лосевым, прямым конкурентом заведующего кафедрой, было трудно. А. Ф. часто говорил, что его больше гнали именно конкуренты в философии и филологии, провоцирующие власть демагогическими воплями о вредном идеалисте.
Да, не могли вынести также многие старые филологи-классики Лосева за то, что и понять было трудно, то ли он философ, то ли филолог, все с какими-то идеями, а зачем идеи, если есть текст, читай его и разбирай грамматически или дай исторический комментарий. Идей очень не любили, особенно оригинальных. Все непонятное называли презрительно «философией». И между прочим, знаменитый знаток греческого и латинского Сергей Иванович Соболевский, как я упоминала, терпеть не мог «этой философии» и укорял добродушно молодого Лосева: «Ну что вы все носитесь с какими-то идеями». Ну что же делать? Философия и филология были для Лосева единым Логосом, в котором мысль и слово неразрывны, и недаром греческий, любил подчеркивать А. Ф., имеет более шестидесяти оттенков вот этого тончайшего взаимодействия мысли и слова.