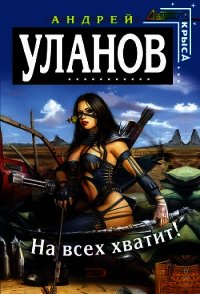Письма сыну - Леонов Евгений Павлович (читать книги бесплатно полные версии .txt) 📗
и т. д. Была тишина, я был белого цвета. Я читал серьезно, мне сказали «спасибо». И это стихотворение Блока спасло меня, примирило и с моим пиджаком, и с моей курносой физиономией, и с недостатком культуры. Потом, говорят, развернулось целое собрание, стали просить Екатерину Михайловну Шереметьеву, она сказала, что я, мол, очень серый, неотесанный, но ее стали снова просить: «Мы поможем» – и меня приняли в студию. Я пошел в Главное управление учебных заведений, и меня официально перевели из одного учебного заведения в другое, хотя этот перевод был очень сложен. Началась учеба, я пропадал в студии с восьми утра до часу ночи. Я был увлечен учебой в студии, делал какие-то успехи, особенно в этюдах, что-то придумывал, ломал голову. Я мечтал стать артистом.
Шли годы учебы в студии. Потом к нам пришел Андрей Александрович Гончаров, молодой, красивый, талантливый ученик известного режиссера Горчакова. Гончаров сразу после ГИТИСа добровольцем ушел на фронт, был ранен, руководил фронтовым театром, а тогда – только что пришел в Театр сатиры. Он стал вести наш курс. Занятия с Гончаровым были такие напряженные, насыщенные, мне все сразу стало казаться очень серьезным и безумно трудным. Так и вошло в мою жизнь искусство как вечный экзамен…
До завтра.
Отец
11.Х.76
Я думаю, Андрей, что, рассказывая тебе о том, как это все у меня получилось, надо вернуться к моей маме. У мамы было нечто такое, что меня, мальчишку, удивляло, – мама умела рассказывать так, что все смеялись, в квартиру набивалось много-много людей. У нас вечно в доме кто-то жил, ночевал, стелили на полу в наших маленьких двух комнатках… И вот мама рассказывала, а все говорили: «Нюра, Господи, ты просто артистка». Она была простая русская женщина и не очень грамотная, но у нее был талант рассказчика. Я вообще похож на маму, и многие потом говорили: «Он в Нюру».
Я так любил искусство, что мне казалось, как ни парадоксально, что я все делаю хорошо, потому что я все делаю со страстью. И оттого что я любил, я верил в то, что происходит, и, если бы сказали, что в конце концов надо умереть, я бы умер по-настоящему.
Конечно, судьба у меня, как и у каждого, была непростой. Когда стал старше, я понял, что Яншин действительно был прав: простота – это очень сложное дело. Ты молодец, что сказал мне о телевидении, и я посмотрел свой старый фильм «Произведение искусства», роль у меня хорошая – Саша Смирнов. Раньше, когда смотрел, не замечал – а сейчас увидел, что я играю, немножко играю. Хотя это кому-то и незаметно и кто-то даже теперь сказал мне: «Вы такой интересный, милый в этой роли». А я ведь, Андрюша, к тому времени уже сыграл «Дни Турбиных», значит, и в «Днях Турбиных» это немножко было – какая-то театральность. Но может быть, еще время было другое, другая эстетика, потом уже появился «Современник», стали требовать, чтобы органично и просто, и каким органичным и простым был Олег Ефремов! Эти мысли приходят не сразу, часть тогда, часть потом, часть сейчас. Конечно, был он прав – Михаил Михайлович Яншин; конечно, и время меняется, и наши представления. Недавно я посмотрел в Свердловске старую картину «Окраина» режиссера Барнета. Я не знаю, были ли они великие актеры, но их картина снята чуть не шестьдесят лет назад, а они играют, как играли бы сейчас. Когда смотришь на Николая Баталова, такое впечатление, что он играет сейчас, а не когда-то. Конечно, легко рассуждать, когда дело к концу жизни идет, когда и падения, и ушибы, и поиски – все пройдено. У меня было не так просто, хотя внешне складывалось хорошо: в кино я снимался первое время, скажу тебе честно, из любопытства, все эпизоды, эпизоды, маленький кусочек мелькнет, и на экране всего-то четыре секунды: пожарник, официант, массовка или какие-то маленькие эпизодики. И в театре – массовки, и в кино. Но какие-то пробы были. И к ролям я уже подходил, пугаясь, откидывая их от себя, чтобы создать барьер пространства, чтобы это пространство освоить – все сложно, непросто, тем более что Яншин репетировал длинно, мучительно и сложно. Школа Яншина – Лариосик в «Днях Турбиных».
Когда я смотрю сейчас «Полосатый рейс», то вижу, что в некоторых сценах правдив, а в некоторых подыгрываю. Рядом с Яншиным был, а не ухватил. Не знаю. Каждый из нас, актеров, имеет право на трудное становление, не быстрое.
Не знаю, Андрюша, могу ли я сказать, что у меня была счастливая жизнь, – и работал трудно, постепенно, хотя внешне выглядело вроде бы удачно: Лариосик! А потом ведь опять неудачи, вообще безрепертуарное время, спектакли слабые.
Но у меня была роль, на которой я учился почти всю жизнь, – Лариосик.
И про кино я тоже не могу сказать, что вдруг сразу все сложилось. Уж я, наверное, в эпизодах примелькался, запомнился зрителю. Потом только «Полосатый рейс» – и вдруг я стал популярный, и научился рассказывать про тигров, и появлялся на эстраде с отрывком из «Раскрытого окна» с Олей Бган. И все-таки такой роли, по которой можно было бы сказать, что это интересный актер, не было. Продолжались какие-то эпизоды и роли, хотя и не маленькие, но незначительные. В театре меня отпускали с трудом, иной раз и не знали, снимаюсь я или нет, я очень здорово лавировал, используя отпуск, выходные дни.
Первой крупной работой, когда обо мне стали говорить серьезно, была «Донская повесть».
В тот момент хоть и Лариосик сыгран, и что-то еще, но все равно неясно было, каким я стану актером, а поскольку в «Раскрытом окне» и в других спектаклях были роли «а-ля Лариосик», критика меня упрекала, что однообразный актер. Честно говоря, в этом тоже была правда, хотя правда однобокая – ведь актер зависит от литературы, в которой работает, а я в тот момент все играл мальчиков, очень похожих по характеристике на Лариосика, и я с радостью вставлял в эти роли то, что было найдено в Лариосике, в той прекрасной литературе. Когда у самого себя воруешь и вставляешь в другое – плохо, но, когда вовсе не было литературы, я подставлял Лариосика. Поэтому повторяю тебе: в театре и вовсе все происходило постепенно, и в кино постепенно, понемножку. И когда мне представилась возможность сняться в шолоховской литературе, я уже считался крепким комиком.
В «Донской повести» мне работалось нетрудно, мы к этому подготовились, искали грим – щетину, челку, искали костюм. Я как-то верил, что могу передать любовь к ребятеночку этому (у меня уже был ты, мой Андрюшка). Фетин, по-моему, и дал мне эту роль потому, что я ему про тебя рассказывал, а иногда, когда рассказывал, слезы появлялись.
В «Морском охотнике» – первая картина-эпизод, там песенку надо было петь, для меня это тоже было стеснительно – и оркестр, и все на меня вытаращились, я так запел, что пюпитры закачались, но все-таки каким-то образом я пел песню – с моим-то слухом. Потом он стал получше, и я даже в «Трехгрошовой опере» пел, из семи нот в четыре, если не в пять научился попадать.
«Дело Румянцева» вроде бы легко работалось, режиссер Хейфиц – мастер. Но я вообще не могу сказать, что мне, молодому актеру, дали роль, я сыграл – все ахнули, я проснулся на другой день знаменитым актером. У меня в моей жизни так не было; все труд, труд, все с этим словом у меня было связано.