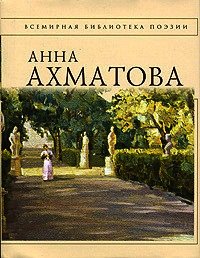Я научилась просто, мудро жить - Ахматова Анна Андреевна (мир бесплатных книг TXT) 📗
После свидания на вокзале в Ташкенте Анна получила от Пунина письмо, оно ее потрясло. Николай Николаевич наконец-то высказал Анне Андреевне все, о чем молчал, думая, что она и так все-все понимает в течение 20 лет.
«14 апреля 42
Самарканд, больница
Здравствуйте, Аня!
Бесконечно благодарен за Ваше внимание и растроган; и это заслужено. Все еще в больнице не столько потому – что болен, сколько оттого, что здесь лучше, чем на воле… Есть мягкая кровать, и кормят, хотя и неважно, но даром. И спокойно. Я еще не вполне окреп, но все же чувствую себя живым и так радуюсь солнечным дням и тихо развивающейся весне. Смотрю и думаю: я живой. Сознание, что я остался живым, приводит меня в восторженное состояние, и я называю это – чувством счастья. Впрочем, когда я умирал, то есть знал, что я непременно умру – это было на Петровском острове у Голубевых, куда на время переселился, потому что там, как мне казалось, единственная в Ленинграде теплая комната – я тоже чувствовал этот восторг и счастье. Тогда именно я думал о Вас много. Думал, потому что в том напряжении души, которое я тогда испытывал, было нечто – как я уже писал Вам в записочке – похожее на чувство, жившее во мне в 20-х годах, когда я был с Вами. Мне кажется, я в первый раз так всеобъемлюще и широко понял Вас – именно потому, что это было совершенно бескорыстно, так как увидеть Вас когда-нибудь я, конечно, не рассчитывал, это было действительно предсмертное с Вами свидание и прощание. И мне показалось тогда, что нет другого человека, жизнь которого была бы так цельна и потому совершенна как Ваша: от первых детских стихов (перчатка с левой руки) до пророческого бормотания и вместе с тем гула поэмы. Я тогда думал, что эта жизнь цельна не волей – и это мне казалось особенно ценным – а той органичностью, то есть неизбежностью, которая от Вас как будто совсем не зависит. Теперь этого не написать, то есть всего того, что я тогда думал, но многое из того, что я не оправдывал в Вас, встало передо мной не только оправданным, но и, пожалуй, наиболее прекрасным. […] В Вашей жизни есть крепость, как будто она высечена в камне и одним приемом очень опытной руки. Все это, я помню, наполнило меня тогда радостью и каким-то совсем необычным, не сентиментальным умилением, созерцательным, словно я стоял перед входом в Рай (вообще тогда много было от «Божественной Комедии»). И радовался не столько за Вас, сколько за мироздание, потому что от всего этого я почувствовал, что нет личного бессмертия, а есть бессмертное. Это чувство было особенно сильным. Умирать было не страшно, и я не имел никаких претензий персонально жить или сохраниться после смерти. Почему-то я совсем не был в этом заинтересован; но что есть Бессмертное и я в нем окажусь – это было так прекрасно и так торжественно. Вы казались мне тогда – и сейчас тоже – высшим выражением Бессмертного, какое я только встречал в жизни. В больнице мне довелось перечитать «Бесов». Достоевский, как всегда, мне тяжел и совсем не для меня, но в конце романа как золотая заря, среди страшного и неправдоподобного мрака, такие слова: «Одна уже всегдашняя мысль о том, что существует нечто безмерно справедливейшее и счастливейшее, чем я, уже наполняет и меня всего безмерным умилением – и славой, – о, кто бы я ни был, что бы ни сделал! Человеку гораздо необходимее собственного счастья знать и каждое мгновение веровать в то, что есть где-то уже совершенное и спокойное счастье для всех и для всего…» и т. д. Эти слова – почти совершенное выражение того, что я тогда чувствовал. Именно – «и славой», именно – «спокойное счастье». Вы и были тогда выражением «спокойного счастья славы». Умирая, я к нему приближался. Но я остался жить, я сохранил и само то чувство и память о нем. Я так боюсь его теперь потерять и забыть и делаю усилия, чтобы этого не случилось, чтобы не случилось того, что так много раз случалось со мной в жизни: Вы знаете, как я легкомысленно, не делая никаких усилий, даже скорее с вызовом судьбе, терял лучшее, что она, судьба, мне давала. Солнце, которое я так люблю после ледяного ленинградского ада, поддерживает меня и мне легко беречь перед этой солнечной славой это чувство бессмертного. И я счастлив».
Ахматова ответила, завязалась переписка, и в августе 1943 года Пунин на несколько дней приехал в Ташкент. Можно предположить, что он хотел наладить прежние отношения, но Анна Андреевна как заведенная твердила, что дала слово Гаршину. Может, и обошлось бы, но, вернувшись в Самарканд, Николай Николаевич застал семейство в панике и горе: Анна Евгеньевна была смертельно больна, а ведь, уезжая, Николай Николаевич оставил жену в добром здравии… Скоропостижная эта смерть вновь развела их: у Пунина – осиротевшие девочки, дочь и внучка, а у Ахматовой – придуманный ею Гаршин.
В. Г<аршину>
ЭТО РЫСЬИ ГЛАЗА ТВОИ, АЗИЯ