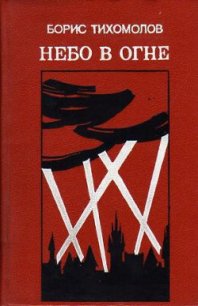На дне блокады и войны - Михайлов Борис Борисович (книга жизни txt) 📗
Я иду к землянке комвзвода. Говорят, там разведчики с «языком». Подхожу. На дне траншеи лежит что-то серое и бесформенное. Это «язык». Вокруг него толпятся разведчики. Один мрачно пихает немца ногой. Всем ясно — «язык» мертв. Поиск не удался.
Разведчики боятся нагоняя. Они примериваются, как тащить труп. На шее у немца бинокль. Я кручусь около сержанта. Иметь бинокль — одно из моих вожделенных мечтаний. Мне очень нужен бинокль! Не говоря уже о его прямом назначении, бинокль мне был необходим и по другим, не менее важным соображениям: одних вырезанных из консервной банки артиллерийских эмблем на погонах маловато. Их часто не замечали и принимали меня за пехоту. А бинокль на шее — ты уже «непехота»! Я еще не раз буду говорить о том, что почет и уважение пехота, как и ленинградские блокадники, получила далеко после окончания войны, в 60-х— 70-х годах. Но я опять отвлекаюсь.
Сейчас не помню в какой момент и почему это произошло, но помню только, что бинокль я сам не просил. Сержант-разведчик, посмотрев на меня, хмуро сказал:
— Бери, тебе пригодится!
Голова у немца была в крови. Пока снимал бинокль с трупа, немецкой кровью перепачкал и руки, и новенький бинокль с просветленной цейсовской оптикой.
Бинокль мне действительно пригодился. Это единственное, что прошло со мной до конца войны. Бинокль я не снимал с шеи даже ночью. Чего он только не видел за свою бурную жизнь! В его голубой оптике зловеще светились горящие села Молдавии, залпы «катюш» в Крагуеваце, он бесстрастно смотрел на взорванные красавцы-мосты Будапешта, на бегущих немцев, на колонны танков Гудериана, шедшие в авантюрный Дунайский прорыв…
Сейчас бинокль на покое. У него катаракта. И только в моих руках он иногда оживает, старается тряхнуть стариной: «Разрыв вижу!»…
Но это «лирика».
Потом мне рассказывали, что те же разведчики в следующую ночь на соседнем участке приволокли двух до смерти перепуганных румын. Наш язык был немцем — артиллерийским наблюдателем. Пленные рассказывали, что на нашем участке фронта немцы заменены румынами. Осталась лишь немецкая артиллерийская поддержка.
Фронт затихал. Немцы отказались от мечты сбросить нас с плацдарма. Все ночи и румыны, и мы копали окопы, глубже и надежнее зарываясь в землю. Были вырыты вторая и третья линии окопов, поставлены новые линии колючей проволоки, минные поля и пр. и пр.
Началось тоскливое плацдарменное прозябание, наполненное мелкими дрязгами коммунального жилья, как бы сейчас учено сказали: «дискомфортного существования на грани психологической несовместимости». Солдаты обсуждали своих офицеров, иногда открыто выражая недовольство «недоливом», «разбавлением» спирта, воровством продуктов, дележом табака…
Что же там было еще?
Да, «женский вопрос». Меня на фронте женщины миновали. Все, что я знаю — это понаслышке. Говорили о женщинах у нас в пехоте вечерами, в основном, грязно. Может быть, все хорошее, связанное с домом, таили про себя, либо в доверительных беседах делились с земляками, друзьями. Этого я не слышал.
Однажды из штаба батальона пришел наш ротный писарь и сказал, что командир второй роты «достал себе бабу». Как? Где?! Это было событие. И даже чуть живые малярики с интересом шастали к землянке комроты «посмотреть бабу».
Дело в том, что, кажется, в начале 1944 года по действующей армии был издан приказ, которым то ли не рекомендовалось, то ли запрещалось направлять женщин на передовую, а служившие там постепенно убирались в тыл.
Я тоже бегал смотреть на «нее», и смотрел широко раскрытыми глазами, как в детстве в зоопарке на двугорбого верблюда — без жалости и сострадания, с одним любопытством. А «она» — не чесанная, почему-то опухшая, вылезала из землянки комроты и, не глядя на десятки охочих любопытных глаз, пыталась пройти мимо незамеченной. Эта девушка-связист («баба») пробыла на передовой недели две. Потом вновь появился писарь и сообщил, что комроты «выгнал поблядушку, застав ее со старшиной». А вообще прислали ее к нам, в пехоту, за «блядство в тылу».
Наша дивизия официально «стояла на плацдарме», поэтому начальство, само жившее на том берегу («на материке»), чтобы оправдать положение, старалось как можно больше служб держать на плацдарме. Переправиться с материка через Днестр на плацдарм для тылов считалось «уйти на передовую». Для нас же их «передовая» — правобережная пойма была вожделенным тылом. Здесь в пойменных садах для поддержания боевого духа располагались политорганы полков, а может быть, и дивизии.
Моя привередливая избирательная память, к сожалению, ничего не сохранила о проводившихся в пойме общих комсомольских собраниях, инструктивных совещаниях и прочих мероприятиях, призванных повысить моральный и политический уровень наших войск, и в частности, наших старичков-крестьян Одесской области. Очевидно, я, выбранный комсоргом роты, бывал там, что-то слушал (меня «накачивали»), а потом я все это в меру своих сил и возможностей доносил до солдат во время обязательных политбесед.
Малярия свирепствовала все лето. Медсанбаты на том берегу Днестра были переполнены. В конце июня, заболев «маляркой», ушел Венька. На его место к нам прислали Юрку Нурка — одного из тех, с кем я приехал на фронт из Термеза. Юрка — ленинградец, эвакуировался с родителями в Ташкент, и оттуда был призван в армию. Он будет тяжело ранен в голову при артналете на нашу позицию только в ноябре, в Венгрии. А пока что он, всегда улыбающийся, в нарушение всяких приказов о конспирации по ротной телефонной связи поет блатные и похабные песни. В начале августа популярность Юрки достигла апогея, с передка приходили солдаты и просили спеть ту или иную полюбившуюся песню. Юрка важно садился в командирской землянке, нажимал на клемму полевого телефона и…
Как ни сторожились ротные телефонисты, в конце концов эти забавы дошли до батальонного парторга. От разжалования Юрку спас любитель песен — комбат.
Начало молдаванского августа. Тепло. Солнечно. Сухо. Румыны против нас будто воды в рот набрали. Молчат. И мы, как только заходит солнце, густыми августовскими вечерами вылезаем на брустверы и дышим свежим воздухом, изгоняя из легких набранную за дневное пекло окопную пыль. На траву выкладываются почему-то вечно сырые вонючие шинели, портянки и мы ведем неспешные разговоры о том, что было до войны, что будет после…
Казалось бы, живи да радуйся. Но пехота, а вместе с ней и мы, стали медленно загнивать, разлагаться не только морально, а и физически. Пошли разные болезни, вновь с особой силой навалилась «малярка», вши ползали открыто и на глазах плодились — их никто не трогал. Окопы погружались в глухую непролазную апатию. В отдельных подразделениях процент маляриков переваливал за 60…
А на других фронтах в это время творилось что-то невообразимое. Сталинские удары сорок четвертого года один за другим «заколачивали в гроб надежду немцев на победу».
23 июня началась одна из наиболее крупных — Белорусская операция. За месяц была освобождена Белоруссия, большая часть Литвы и значительные территории Польши. Наши войска вплотную подошли к границам Германии.
Временами отступление немцев переходило в неуправляемое бегство. Восточнее Минска оказались окруженными 4-я и 9-я немецкие армии. При ликвидации этого «котла» 70 тысяч немцев было убито и 35 тысяч взято в плен. Конечно, справедливости ради следует заметить, что эти цифры на порядок меньше плененных в сорок первом году почти в тех же местах советских солдат и офицеров, но с очевидностью свидетельствовали об упорном сопротивлении немцев и предполагали, соответственно, большие потери у наступающих.
Захваченные в Белоруссии немцы составили основной костяк, кажется, 50-тысячной колонны немецких военнопленных, которую в августе 1944 года прогнали по улицам Москвы. Мы смотрели на фотографии этого зрелища, помещенные в газетах, и с гордостью за наших «белорусов» злорадно посмеивались, глядя на брустверы немецких окопов, заросшие бурьяном и пожухлой травой. Когда же мы?.. Хоть к черту в пекло, но только прочь от этих ненавистных вонючих и загаженных окопов!..