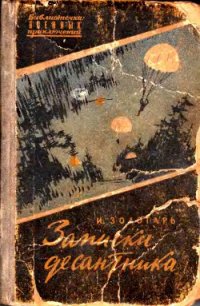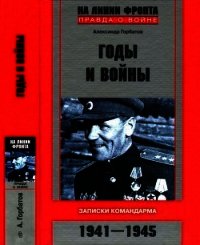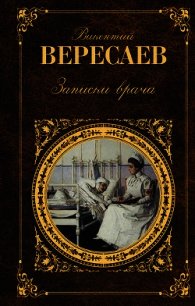Записки пленного офицера - Палий Петр Николаевич (прочитать книгу .TXT) 📗
Я зашел к Горчакову на следующий день утром и напрямик задал ему вопрос о том, что он знает об этом НАР с «О!» Он рассказал мне следующее: в маленьком рыбачьем поселке Пеенемюнде, недалеко от Штеттина, еще в 1937 году Вермахт организовал Военную Экспериментальную Станцию, по-немецки Heeresversuchtanstalt Peenemьnde, или сокращенно НАР; другое название: Heimatartilleriepark — тоже НАР. Этим учреждением очень интересовалась советская разведка, т.к. было известно, что именно здесь ведутся эксперименты и испытания боевых ракет большой мощности. К концу 1939 года там уже были закончены все предварительные работы по созданию ракет А-3 и А-4. Оказывается, приезд инженера Мейхеля из этой организации, НАР, для вербовки на работу пленных инженеров вызвал серию разговоров в «генеральском» бараке, и тогда Карбышев вспомнил, что читал секретные донесения разведки об этом «Пеенемюнде». Горчаков, обычно очень сдержанный во всех разговорах, касающихся тем, не имеющих, прямого отношения к сегодняшней жизни в лагере, на этот раз был более откровенен и словоохотлив. В разговоре с ним я узнал о многих вещах, ранее мне совершенно не известных. В группе пленных генералов Красной армии, содержавшихся в Хаммельбурге, — среди них были Карбышев, Лукин и ряд других с громкими именами, — в продолжение последних месяцев обсуждалось, что произошло, что происходит и чего можно ожидать в будущем, как в отношении исхода войны, так и в отношении судьбы всей массы советских пленных, переживших зиму 1941-42 годов. Теперь эти вельможи советской военной элиты понимали, что если Советский Союз устоял и не распался при первом сокрушительном ударе Германии, то будущее становится очень неопределенным. Там, в этом «генеральском бараке», не было единого мнении ни по одному вопросу, но у всех у них безусловно был известный «комплекс вины». Если бы осенью 1941 года они не растерялись, не спрятались за своими чинами, как улитки в раковинах, а решительно и настойчиво стали бы говорить с немецкой администрацией лагерей, используя авторитет крупных военачальников, признаваемый и немцами, то вполне вероятно, что условия существования пленных во многих лагерях можно было бы улучшить. Во всяком случае, можно было бы не допустить, чтобы внутренняя администрация этих лагерей попала в руки авантюристов и негодяев типа Гусева, Скипенко или Стрелкова, как это случилось в Замостье, где в генеральском бараке жил тот же Карбышев и другие генералы. Генералы прекрасно знали официальную политику Советского Союза относительно содержания военнопленных, знали об отказе Сталина присоединиться к Женевской Конвенции Международного Красного Креста и о причинах этою отказа. Они также трезво оценивали положение массы пленных в случае победы союзников и СССР над Германией при репатриации, в том числе и свое собственное. Если для многих репатриация сулила многолетнее заключение в концлагерях, то для них это был приговор к расстрелу. В уголовном кодексе РСФСР и других республик сказано: оставление боевой позиции или сдача в плен врагу без прямого приказа начальствующего лица карается расстрелом. Их начальник, Иосиф Сталин, приказа о сдаче в плен им не давал. Так что вернуться домой можно было или «на щите», что в данном случае означало — избитым, обесчещенным, в телячьем вагоне под конвоем НКВД, на короткий суд и расстрел, или «со щитом» — с развернутыми знаменами, на белой лошади, во главе дивизий. Каких? конечно, антисоветских, антикоммунистических. И если западные антикоммунистические демократии оказались союзниками Сталина в борьбе против национал-социалистической Германии Гитлера, то естественным и единственным союзником каких-то организованных российских антисоветских вооруженных сил мог быть только Гитлер. По словам Горчакова, часть генералов начала серьезно думать о создании таких вооруженных сил, и они считали, что для этого есть все предпосылки. Мы, просидевшие всю зиму в Замостье в абсолютной изоляции, только мельком слышали о создании русских национальных антибольшевистских частей, например, когда появились у нас в лагере представители Смысловского-Регенау. А оказывается — дело и было, и есть во много раз серьезнее и разрастается в очень больших размерах. Еще в ноябре 1941 года около Смоленска возникла группа, организующая «Освободительное Движение», и там были сформированы первые воинские части, костяк будущей «Освободительной Армии». По данным, имеющимся в распоряжении генерала Лукина, не менее полумиллиона бывших военнопленных, разных воинских соединений и организаций первой эмиграции и добровольцев из населения оккупированных немцами районов уже находится под ружьем и сражается против советского правительства. Теперь дебатировался вопрос, как договориться с немецким командованием, чтобы объединить все эти разбросанные части воедино и под русским командованием, чтобы превратить войну из русско-немецкой во внутреннюю гражданскую войну с целью свалить и уничтожить советскую систему. Задача, конечно, огромных размеров, политически чрезвычайно сложная, но то, что огромное большинство пленных в лагерях и населения в стране настроено крайне антисоветски, вселяло надежду, что если немцы правильно поймут цели движения и помогут развитию его, то она станет осуществимой. Так думал Горчаков, и, очевидно, не только он — «Я думаю, что скоро во всех лагерях и в рабочих командах будет проводиться разъяснительная работа из какого-то центра, и тогда рекомендую вам крепко подумать надо всем этим», — сказал Горчаков в заключение нашей затянувшейся беседы.
Эти разговоры заставили меня действительно «крепко подумать». Прежде всего, по-новому встал вопрос, куда мы едем и какую работу должны будем выполнять? После отъезда моих замостьевских приятелей и Владишевского я остался в одиночестве. Горчаков был не в счет, т. к много времени уделял административной работе в нашем русском секторе, а когда был свободен — обычно уходил в генеральский барак. Немногие имели туда свободный доступ, но он — имел. Наученный горьким опытом прошедшей зимы, я не доверял окружающим меня новым людям. Единственным человеком, с которым, мне казалось, можно поделиться сомнениями и мыслями, был Бедрицкий. Я рассказал ему, что узнал о Пеенемюнде, и спросил его мнение. — «Ведь мы можем оказаться в положении инженеров, работающих над созданием новых типов оружия. Оружия, которое немцы будут использовать против наших солдат, а возможно и против городов и заводов в тылу. Как вы это оцениваете?» — Бедрицкий помолчал немного и вдруг сказал: «Бог дал мне смирение и терпение принять то, что я не могу изменить. Бог дал мне храбрость, силу и настойчивость изменить то, что я могу. И Он дал мне мудрость и разум, чтобы понимать эту разницу». Я был поражен! Это были слова, которые я много раз повторял в жизни при самых трудных обстоятельствах. Это был, так сказать, стержень моей личной философии. — «Откуда вы это взяли, эти слова?» — спросил я. — «Не знаю, но они дают мне силу жить, если бы я был средневековым рыцарем, я бы этот девиз написал на своем щите». — «Следовательно?» — «Я думаю, что сейчас мы на первом параграфе, когда приедем и осмотримся — будем на третьем, а тогда и решим, что мы можем предпринять по второму». — Мы с Сергеем Владимировичем вскоре перешли на «ты» и сделались близкими друзьями.