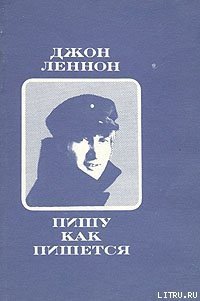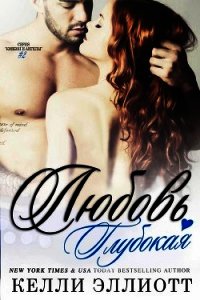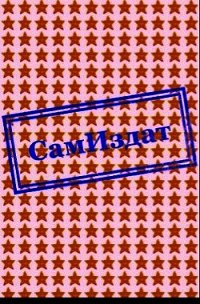На берегах Невы - Одоевцева Ирина Владимировна (книга жизни TXT) 📗
Протестующий взмах рук.
– Что вы? Что вы? Это я вам благодарен за то, что вы так ангельски терпеливо слушаете меня. – Восторженные, сияющие глаза приближаются ко мне. Я чувствую его горячее дыхание на моем лице. – Скажите, ведь вы еще будете приходить сюда, на эту скамейку? Приходить меня слушать? Потому что я теперь буду часто, я буду каждый день приходить сюда. Слушатель – это такая нежданная радость. Голубушка, если бы вы знали, как мне тяжело молчать. Никто меня не хочет слушать. Каждый только о себе. Мнение о стихах своих у меня выпытывают. Похвал ищут. Что ж? Я хвалю. Я щедро хвалю. Всех – без разбора. А стихи не слушаю. Кроме Блока да еще Ходасевича, нет никого... Еще о болезнях любят и о своих бедах. Но у меня у самого болезни, у меня у самого беды – неисчислимые беды. Я не желаю знать чужие. Хватит с меня и своих. Настоящий, даровитый слушатель – редкость. Я страшно ценю. Я знаю ведь – это нелегко. Я до обморока заговариваю. Да, да, я – без преувеличения – до обморока заговорил Сережу Соловьева. Да и не его одного. Мы с Сережей у него в Дедове часто до зари сидели. Я говорил, он слушал. И, как вы, никогда не прерывал. Только страшно бледный становился. И вот однажды, уже под утро, он молча встал с кресла и – бряк о пол, во всю длину. Еле откачали. Мог умереть.
Отлет головы и:
– Но мне необходимо. Совершенно необходимо говорить. Как другим дышать. – В расширенных глазах ужас. – Я могу задохнуться. Я цепенею от молчания. Прошлое, как трясина, засасывает меня. Я иду ко дну, я гибну. Я не могу молчать. Не мо-гу! А они не понимают...
Он вздыхает глубоко и закрывает глаза.
– Вот сейчас мне легко. Я и спать, наверно, буду хорошо. – Он останавливается на мгновение. – Я сам не понимаю, почему мне так необходимо говорить, вспоминать. Ведь я в сотый раз уже рассказываю все это. А надо снова и снова. И каждый раз как впервые. Будто – вот пойму, почему это так было. Вот сейчас разрешу загадку. А ведь знаю – никогда не разгадаю. Я не Эдип. Хотя еще несчастнее Эдипа. Самое страшное, что и загадки-то нет. Любовь Дмитриевна – сфинкс без загадки. Я знаю, а все-таки... Хочу разгадать, понять...
Вот гадалки предсказывают, открывают будущее. Я бы пошел к гадалке, я бы пошел к десяти гадалкам, если бы они вместо будущего открывали прошлое. Объясняли, что, зачем и почему было. – Он продолжает уже мечтательно: – Ах, если бы можно было приказать прошлому – помните, Али-Баба и сорок разбойников? – «Сезам, отворись!», и прошлое отворилось бы и впустило меня в себя. Но прошлое заперто на тридцать три поворота, и ключ брошен на дно моря.
Он вздыхает и задумывается. И вдруг нагнувшись, поднимает с земли камушек, кладет его на ладонь и, раздув щеки, старательно дует на него.
Я смотрю на него с удивлением. Он поворачивается ко мне и, застенчиво улыбаясь, объясняет:
– Мне в детстве всегда казалось, что можно оживить камушек, если долго на него дуть. Вдохнуть в него жизнь, и камушек вдруг начнет шевелиться. Станет жуком и улетит или червяком и уползет. А вам разве не казалось?
Я не успеваю ответить, что нет, не казалось. Он уже продолжает:
– Как давно и как недавно все это было... Детство... Молодость... Я теперь на вид старик. Седой. Лысый в сорок лет. Мне на днях в трамвае какой-то бородатый рабочий место уступил: «Садись, отец!» Хорошо еще, что не «Садись, дед!». Я поблагодарил, но вылез на следующей станции, хотя мне надо было далеко ехать. От обиды. И с тех пор не пользуюсь трамваями.
Он проводит рукой по лбу.
– Какой вздор, какая чушь – «что пройдет, то будет мило». Если бы можно было не помнить. Забыть. Теперь все совсем другое. Я люблю Асю. Невыразимо люблю. Она нежная, легкая, прелестная. Ася Тургенева – «тучка золотая» – так ее звали в Москве. Она чудная. Она в Дорнахе у доктора Штейнера. Она ждет меня. Ждет, хотя и не пишет. А может быть, и пишет, но письма перехватывают, крадут. Всюду враги, шпионы. – Он испуганно оглядывается. – А здесь за деревьями никто не прячется, не следит за мной? Вы уверены? И за статуей никто не подслушивает? Ведь они выслеживают меня, ходят за мной по пятам. Они хотят помешать мне вернуться к Асе. А я тоскую о ней. Она все, что у меня осталось.
Он выпрямляется и, закинув голову, медленно и проникновенно декламирует, с какой-то старомодной выразительностью:
И вдруг, будто снова дернув себя за невидимую ниточку – дерг-передерг, – весь превращается в движение и «звукословие».
– Это я о ней. Асе. Я тоскую, мечтаю о ней. А думаю и говорю о Любови Дмитриевне. Не дико ли? Ведь от нее прежней ничего, решительно ничего не осталось. Ее узнать нельзя. Прекрасная Дама, Дева Радужных Высот. Я ее на прошлой неделе встретил на Офицерской. Несет кошелку с картошкой. Ступает тяжело пудовыми ногами. И что-то в ней грубое, почти мужское появилось. Я распластался на стене дома, будто сам себя распял, пропуская ее. Она взглянула на меня незрячим взглядом. И прошла. Не узнала меня. А я все глядел ей вслед. Помните, у Анненского:
Но от этого ничего не изменилось. Мне не стало легче. – Пауза. Вздох. – А он, Саша... Он все так же прекрасен. Или нет, иначе. Трагически прекрасен. Он измучен еще сильнее, чем я измучен. И как странно. Мы живем в одном городе. Мы часто встречаемся – то в Доме искусств, то во «Всемирной литературе» на Моховой. Здороваемся. «Здравствуй, Саша». – «Здравствуй, Боря». Рукопожатие. И все. Ни разу за все это время не разговаривали. Почему? – Недоумение в голосе. Недоумение в глазах. – Почему? Ведь мы были друзьями. И мы все друг другу простили. Все... Так почему? Почему?..
Он вдруг вскакивает, хватает меня за руку, заставляет встать.
– Знаете что? Пойдем сейчас к нему. Пойдем! Это будет чудесно. Чудесно! Мы позвоним, и он сам откроет. Он, наверно, даже не удивится. Но он будет рад. Ужасно рад. Мне, – и, спохватившись, быстро и убедительно: – И вам тоже будет ужасно рад! На вас розовое платье. И вы подарите ему вашу сирень. Вы напомните ему юность, розовую девушку в цветущем саду. Он поведет нас в кабинет, и мы втроем, потому что она-то не выйдет, она не простила, о нет! Но это хорошо, что она спрячется, скроется. Мы втроем просидим всю короткую белую ночь до зари. Нет, не белую, серебряную. Видите, и сейчас уже все стало серебряным. – Он широким жестом охватывает небо и сад. – Все серебряное – и луна, и статуи, и деревья, и шорох листьев, и мы с вами. Сегодня волшебная ночь. Сегодня, я чувствую, я знаю, мы с Сашей будем прежними, молодыми. А вы будете сидеть на диване, свернувшись клубком, и слушать нас. Как она когда-то. Она ведь тоже умела прекрасно слушать. Идем, идем скорее. Ведь это совсем близко...
О, я знаю, – взволнованно повторяет он, – все будет чудесно, волшебно. Сон в летнюю ночь. Серебряный сон волшебной серебряной ночью. Идем скорее!..
Он почти бежит к выходу, увлекая и меня за собой. Но я не хочу. Не могу. Я сопротивляюсь.
– Нет, нет, нет! Ни за что!
Разве я могу, разве я смею пойти к Блоку? Ведь Блок для меня не только первый, не только любимейший поэт. Блок для меня святыня, полубог. Мне даже страшно подумать, что я могу так – без длительной подготовки, – сейчас, сегодня пойти к нему. Я умру от страха. Сердце мое кувыркается в груди, и горло сжимается. Я с трудом говорю:
– Нет. Я не могу. Мне надо домой. Меня ждут. Будут беспокоиться. Ведь очень поздно. Очень поздно...
О, мне безразлично. Пусть дома беспокоятся. Но довод о беспокойстве домашних производит неожиданное действие.
– Ваша мама? Она будет ждать, и волноваться, и плакать. Тогда... Тогда вам действительно нельзя идти. – Он останавливается, выпускает мой локоть и говорит изменившимся, трезвым тоном: – Значит, ничего не будет. Все провалилось.