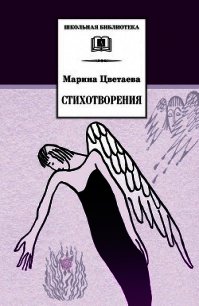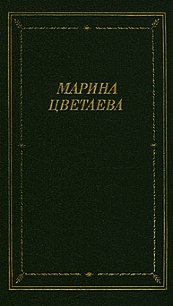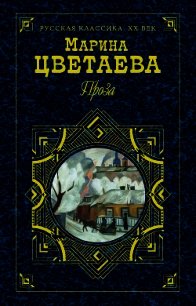Одноколыбельники - Цветаева Марина Ивановна (читать лучшие читаемые книги .TXT, .FB2) 📗
Пишу Вам из Праги, куда приехали лишь два дня тому назад. Отношение чехов к нам удивительно радушное – ничего подобного я не ожидал. Любовь к России и к русским здесь воспитывалась веками. Местное лучшее общество все говорит по-русски – говорить по-русски считается хорошим тоном. То же, что было у нас с французским языком в былое время. Всюду – в университете, на улицах, в магазинах, в трамвае каждый русский окружен ласковой предупредительностью… Живем здесь в снятом для нас рабочем доме. У каждого маленькая комнатка в 10 кв. аршин, очень чистая и светлая, напоминающая пароходную каюту. Меблировка состоит из кровати и табуретки. Кажется, еще будет выдано по маленькому столику…
В первый же день по приезде в Прагу получил письмо от Марины. Она пишет, что два ее плана выезда из России провалились. Но надежды она не теряет и уверена, что ей удастся выехать к весне. Живется ей очень трудно.
Отсюда легко переписываться с Россией. Почта работает правильно – письмо в Москву идет две недели. Эренбург написал мне сюда, что посылать письма в столицы совсем безопасно. А Э-ргу я верю и потому вчера уже отправил письмо Марине. Отсюда же можно отправлять посылки. Об этом сейчас навожу справки…
Часть пятая. Конец разлуки. После России
Прага
Марина Цветаева
«Золото моих волос…»
Золото моих волос
Тихо переходит в седость.
– Не жалейте! Все сбылось,
Все в груди слилось и спелось.
Спелось – как вся даль слилась
В стонущей трубе окрайны.
Господи! Душа сбылась:
Умысел твой самый тайный.
__________
Несгорающую соль
Дум моих – ужели пепел
Фениксов отдам за смоль
Временных великолепий?
Да и ты посеребрел,
Спутник мой! К громам и дымам,
К молодым сединам дел –
Дум моих причти седины.
Горделивый златоцвет,
Роскошью своей не чванствуй:
Молодым сединам бед
Лавр пристал – и дуб гражданский.
Между 17 и 23 сентября 1922
Сергей Эфрон
Сергей Эфрон – Е.О. Кириенко-Волошиной, М.А. Волошину
10 мая 1923, Прага
Родные и дорогие мои Пра и Макс, – Давно бы написал и постарался бы помочь вам, если бы точно мог узнать ваш адрес. Здесь ходили упорные слухи, что вы перебрались в Москву. Вчера прочел в «Русской книге» новые стихи Макса, его адрес и список нуждающихся в Крыму. Сердце сжалось. Дорогие мои! Вчера же я видел кой-кого и удалось образовать группу, которая ежемесячно будет отчислять в пользу нуждающихся и через меня направлять тебе, Макс, с тем чтобы ты распределял между особо нуждающимися. – Особенно много набирать вряд ли удастся, но приблизительно на германскую валюту выйдет, думаю, не меньше ста тысяч германских марок. Весь вопрос, как тебе переслать эту сумму. Можно бы через банк, но, говорят, обязательный курс иностранной валюты в несколько раз меньше действительной ее стоимости. Мы не знаем, обкладываются ли пищевые посылки пошлиной. Если нет, то самым практичным, конечно, будет посылать такими посылками. Имейте в виду, что американцы прекратили прием посылок и что придется их посылать прямо по почте. Можно бы сахар, муку и сало. Ответь мне немедленно, чтобы не задержать первой присылки.
Надеюсь, что удастся начатое дело расширить. Самым трудным препятствием, повторяю, является установление верной связи. Ибо ничто так не расхолаживает дающих, как неполучение посылок. А таких случаев очень много.
– Мы втроем живем в Праге, или вернее, под Прагой. Марина проводит дни, как отшельник. Очень много работает, бродит часами после работы одна в лесу, бормоча под нос отрывки стихотворных строк. В Берлине вышли ее четыре книги, скоро выйдет пятая. Я в Пражском университете – готовлюсь к докторскому экзамену. Буду dr. философии нечайно. Это дает мне здесь средства к существованию[162]. Аля с каждым днем все более и более опрощается. Как снег от западного солнца, растаяла ее необыкновенность[163]. Живем в простой деревенской избе. Вокруг холмы, леса, поляны – напоминает Шварцвальд. Каждый день, поднявшись в 6 ч., уезжаю в Прагу и возвращаюсь только вечером.
Людей почти нет из тех, кого хотелось бы. Моральной твердости и честности много, но не этим только жив человек. – В Берлине обратное – при очень слабой твердости и честности.
Родная моя Пра, как и где живешь?[164] Знаю, как тяжко приходилось вам с Максом в Крыму. Я читал письма, написанные Марине. Дорогая моя старушка! Глажу твою седую, лохматую, измученную голову. Думаю о тебе с сыновьей любовью, с сыновьей преданностью и с сыновьей благодарностью за последние мои Коктебели. Верю, уверен, что судьба еще пошлет нам встречу. Но если здесь не встретимся – знай, что ты мой постоянный спутник, вечный и неотлучный.
Дорогой Макс, мне очень трудно писать первое письмо. Трудно, потому что помимо воли оно выливается в объяснение в любви. Второе будет легче. Поцелуй от меня всех друзей – Володю, Константина Федоровича, Наталью Ивановну, Поликсену Сергеевну – всех[165]. Узнал о смерти Александры Михайловны[166]. Жалеть ли ее? Думаю, – она нас жалеет.
Обнимаю вас крепко и люблю,
Ваш С.
Мой адр<ес>: Чехословацкая Республика
Praha II–Vyšehradska tř. č. 16
Městský Chudobinec
мне (по-русски)
Марина Цветаева
Марина Цветаева – Е.О. Кириенко-Волошиной, М.А. Волошину
10-го нов<ого> мая 1923 г.
Мои дорогие Макс и Пра!
Пока только скромная приписка: завтра (11-го нового мая) – год, как мы с Алей выехали из России, а 1-го августа – год, как мы в Праге. Живем за́ городом, в деревне, в избушке, быт более или менее российский, – но не им живешь! Сережа очень мало изменился, – только тверже, обветреннее. Встретились мы с ним, как если бы расстались вчера. Живя не-временем, времени не боишься. Время – не в счет: вот все мое отношение к времени!
Я много раз тебе писала из Москвы, Макс, но ты все жаловался на мое молчание. Пишу и на этот раз без уверенности, увы, что дойдет! Откликнись возможно скорей, тогда в тот же день напишу тебе и Пра обо всем: о жизни, стихах, замыслах.
Ах, как бы мне хотелось послать тебе и дорогой Пра книги! «Разлуку», «Стихи к Блоку», «Царь-Девицу», «Ремесло». Не знаю, как осуществить. Оказии отсюда редки. Живой повод к этому письму – твой живой голос в «Новой книге». Без оклика трудно писать. Другой постепенно переходит в область сновидения (единственной достоверности!) – изымается из употребления! – становится недосягаемостью. – Тебе ясно? – Это не забвение, это общение над, вне… И писать уже невозможно.