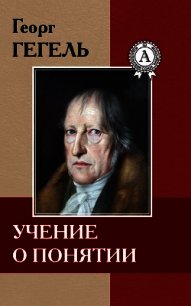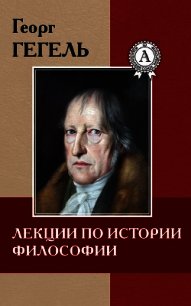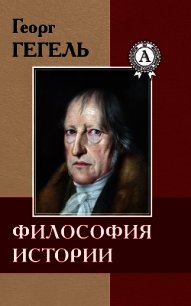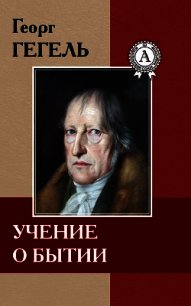Гегель. Биография - Д'Онт Жак (читаем книги .TXT) 📗
Оратор
Уже в Штутгарте учителя упрекали юного лицеиста в недостатке красноречия. Позже в Тюбингене они не менее суровы: у него нет ораторских данных, ни голоса, ни жеста — свидетельствуют они.
Тем не менее это не помешало им объявить Гегеля хорошим проповедником, способным убеждать. Можно заподозрить излишнюю строгость суждений: возможно, им было жаль, наряду со столькими превосходными качествами констатировать некую капитальную неспособность, которая могла обесценить все остальное. Ему не хватает столь малого, чтобы достичь совершенства. Как жаль.
Это так. И с этим надо смириться. Гёте в письме Кнебелю в 1807 г. в двух словах подводит итог этому несовпадению: «Я хочу иметь изложение его мысли. Это такой выдающийся ум, и ему так трудно выразить себя» (С1 398). Изложение не замедлит появиться, но не более ясное: «Феноменология духа»!
Студенты, посещавшие лекции Гегеля, подтверждают эти оценки. Лекции Гегеля — не подарок.
Верный ученик, первый издатель его «Эстетики», Генрих Густав Хото дал ставшее классическим описание приводящих в замешательство лекций берлинского профессора. Он говорит об изумлении, которое сразу овладевало слушающими Гегеля: «Он сидел за своей кафедрой, голова, склоненная к плечу, расслабленный, насупленный, погруженный в себя и, не переставая говорить, перелистывал большую тетрадь in folio, заглядывал вперед, листал назад, искал наверху или внизу страницы. Непрестанно прочищал горло и откашливался, и это мешало ему говорить. Каждая фраза получалась словно отсеченной, раздробленной, казалось, она сходит с уст учителя ценой огромных усилий и падает куда придется… Каждое слово, каждый слог, казалось, отделяются не по своей воле, все порознь и все с первозданной весомостью — все это металлическим голосом на безнадежно швабском диалекте.
И тем не менее в целом речь его принуждала к вниманию и внушала уважение; от оратора исходила величественная серьезность».
Хото признает: «Несмотря на то что я изнемог и не понимал ничего из того, что говорилось, я чувствовал, что меня увлекает неодолимая сила».
Благодаря своим усилиям и настойчивости, Хото, как и другие, освоился с этой внешней стороной преподавания учителя, и перед ним все яснее раскрывалось необычное содержание произносимого. Он понял, что затруднения в речи порождены самой сущностью преподносимого им материала, и что иной формы для этого содержания не найти.
Какая разница! Впечатление было неизгладимым: «Он начинал нерешительно, с трудом продвигался вперед, возвращался к началу, снова останавливался, говорил и думал. Казалось, ни для чего нет нужного слова, но тут‑то оно и находилось: оно казалось совсем обычным, и тем не менее было подходящим, незаменимым, употребленным так, как его редко употребляют, а потому единственно верным. Смысл сказанного становился ясен, и мы с нетерпением ждали продолжения. Напрасно! Если ослабленное внимание на миг отвлекалось, если внезапный скачок возвращал к пройденному месту, тогда мысль мэтра, вместо того чтобы идти вперед, казалось, кружится вокруг одной и той же точки, повторяются без конца одни и те же слова.
Этот могучий ум спокойно копал и строил на недоступной глазу глубине, уверенный в себе, ничем не стесненный. Тогда голос его возвышался, глаза сверкали поверх собравшихся, он сиял, воспламенившись удачей, и достигал высот и глубин души с помощью слов, всегда не случайных…» [231].
Хото долго живописует это странное соединение редкостной силы мышления с досадным неумением справиться с речью. Почему у Гегеля не получалось выражаться проще, яснее, легче?
Обилие свидетельств, кажется, убеждает. Но возникают вопросы. Как Гёте мог разглядеть «выдающийся ум» в человеке, не умеющем себя выразить? Не объясняется ли это профессорское неумение говорить по большей части его небрежностью, безразличием на сей счет? Он мог бы, сдается, без особых усилий улучшить свою речь, манеру говорить, по крайней мере выправить некоторые досадные изъяны, но, возможно, это его не интересовало, возможно, какое‑то странное кокетство было в том, что он намеренно пренебрегал формой ради исключительно содержания, если только такое возможно: хороший мыслитель, чурающийся краснобаев и не желающий сходить за одного из них.
Не было ли у него также чувства, что кажущаяся темнота его речей может, в конце концов, сослужить ему службу, и что этим изъяном нужно наилучшим образом воспользоваться?
Но мог ли Гегель развернуть свои ораторские способности, когда в Тюбингене должен был читать насмешливым однокашникам и сообщникам проповеди, в которые он не верил, а то и считал зараженными фальшью? Учителя могли принять за отсутствие способности то, что было умышленным желанием быть непонятым или следствием дурного расположения духа. Разве не так же, по сути, обстояли дела в Берлине: как мог он развязать язык перед публикой, среди которой — он это знал — скрывались злобные ненавистники и шпики?
Оценивая задним числом гегелевскую «неспособность к красноречию», нужно также учитывать тот факт, что специалисты, как правило из лени или предосторожности, вторят ранее сказанному кем‑то. И человек, бывает, до конца жизни носит ярлык, приклеенный в юности: в случае Гегеля — «плохой оратор».
И тем не менее тому, кто показал себя «самым пламенным оратором» подпольного политического клуба в Тюбингене, кому в Берлине была поручена официальная речь по случаю торжественного празднования годовщины Аугбургского исповедания, несомненно, случалось порой говорить ясно и убедительно.
Разве не доверили ему, несмотря ни на что, уже в Штутгарте престижную «прощальную речь» по окончании занятий в Лицее?
Должно быть, у него было много возможностей проявить себя. Временами он очень даже умел быть понятным. Один показательный пример подтверждает это. Гегель устно комментировал компактные параграфы своей «Энциклопедии философских наук», печатный текст которой находился в распоряжении у слушателей и представлял собой лишь «Краткое изложение». Эти комментарии, к счастью, были собраны студентами с великим тщанием. Очень часто они являют собой удовлетворительное изложение какого‑нибудь вопроса гегелевской философии, который излагается сам по себе, вне зависимости от его тесной связи с другими частями системы. Читая их и наслаждаясь ими, не можешь отделаться от подозрения, что — о кощунство! — мысли Гегеля теряют в ясности и отчетливости, когда он методично и властно помещает их в системно выстроенное целое. Можно посоветовать начинающим, при первом знакомстве с Гегелем, читать его, справляясь с этими «Добавлениями» к Энциклопедии, которые поначалу были устными. Гегель умел объяснять, когда он этого хотел и обращался напрямую к студентам, желающим его слушать.
Но не всегда ситуация была такой.
Писатель
Та же самая невразумительность свойственна, между прочим, и писаниям Гегеля. Его манера письма кажется не более легкой, чем манера говорения. Его перо не ловчее и не гибче его голоса.
Он знал об этом своем недостатке, и ему о нем постоянно напоминали. В конце жизни он мог прочитать в одном учебнике по философии, которым сам пользовался, оценку, данную ему Вендтом, дружественным автором, относившимся к нему вполне благожелательно: «Огромная проницательность видна в том, как он использует свой прогрессивный метод (die fortschreitende Methode), но манера изложения настолько суха и шероховата, что делает понимание крайне затруднительным» [232].
Можно было бы без конца умножать подобные свидетельства того, что Гегеля читать трудно, но, чтобы в том убедиться, не достаточно ли заглянуть в «Феноменологию»? Сплошная мука. Конечно, дело пойдет лучше, если воспользоваться французским переводом — интерпретацией. Переводчик, чтобы сделать свое дело, просто обязан отыскать смысл в оригинале или снабдить его им. Но честный комментатор все‑таки не скрывает своих затруднений. Геринг, посвятивший большую часть жизни прояснению смысла «Феноменологии», признавался в 1929 г.: «Это секрет Полишинеля, — то, что по сю пору почти все изложения философии Гегеля или введения в нее оставляют полностью безоружным читателя, желающего приступить к чтению его произведений, и даже то, что среди интерпретаторов Гегеля очень мало способных привести к целому, слово за словом, хотя бы одну его страницу» [233]. Герингу хотелось верить, что ему это удалось лучше, чем предшественникам, но его самого раскритиковали те, кто шел за ним. С Гегелем всегда так.