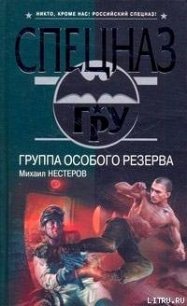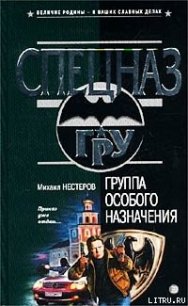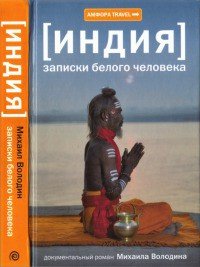Записки непутевого резидента, или Will-o’- the-wisp - Любимов Михаил Петрович (читать книги полностью без сокращений бесплатно .txt) 📗
В то время я немного стыдился грязи в отечественных клозетах, хотя потом, в Лондоне, обнаружил почти полное сходство, разве что наши надписи на стенах явно уступали басурманским по изощренности, но дело было не в загаженности: как известно, в наших туалетах обычно по загадочной причине сломаны внутренние запоры — то ли у клиентов слишком много времени и они попутно отрывают щеколды, то ли ожидающие взламывают кабины и выбрасывают оттуда тех, кто имел несчастье задержаться, то ли хитроумные власти специально ломают замки в целях предупреждения гомосексуализма— «воистину, есть много вещей в этом мире, Горацио, что недоступны нашим мудрецам!». Итак, он рванул дверь на себя, и оттуда выпал прямо на кафельный пол седой человек в усах, сидевший на корточках прямо на пожелтевшем унитазе, упал не рядовой гражданин, а самый настоящий полковник [5], который держался за ручку двери, охраняя свой покой, и теперь барахтался на грязном кафеле, путаясь в подтяжках.
Скандал разразился превеликий, и не помогли мои заклинания о дружбе между советским и английским народами, мат стоял крепкий, полковник схватил моего англичанина за лацканы пиджака, и если бы не мои вопли об ответственности перед королевой и Министерством иностранных дел, то случилось бы страшное.
Этот эпизод, как ложка дегтя, испортил все мои старания, пропагандистские достижения мигом пошли насмарку, и я дрожал, что он уедет врагом нашей гостеприимной державы, да еще станет антикоммунистом, да еще статью тиснет и меня упомянет, — о, как хрупка жизнь будущего дипломата…
Но вот уже 1961 год, еще не списанный дореволюционный мягкий вагон, купе с рукомойником, отделанным бронзой, и мы с женою, молодые и красивые, среди коробок и тюков, набитых кастрюлями, бельем и прочими бытовыми предметами, на которые не хотелось тратить драгоценные фунты из зарплаты, не большей, чем у английского дворника, но в наших глазах равный кладу капитана Флинта.
Хук-Ван-Холланд, паром через Лa-Манш, Харич, скромный порт, да и наш паром мало напоминал приличествовавший событию фрегат под парусами. Я надвинул шляпу на глаза а-ля капитан Немо (сейчас бы черный плащ и бинокль — тут уже ни у кого не осталось бы сомнения, что прибыла важная птица), берег приближался, грудь распирала гордость от возложенной на меня шпионской миссии, охватывало приятное предвкушение опасного труда — так, наверное, чувствовала себя великая шпионка-танцовщица Мата Хари в своем парижском салоне перед тем, как прыгнуть в кровать к французским офицерам.
Правда, снедало и беспокойство, но не столько из-за боязни безжалостных капканов контрразведки МИ-5, сколько из-за смогов, которым посылал в свое время проклятия Карамзин: «Я не хотел бы провести жизнь мою в Англии для климата сырого, мрачного, печального». Подобного климата я так и не ощутил, но тогда страшился грязных туманов — ведь мы ожидали ребенка и не хотели, чтобы малыш глотал проклятую сажу [6]. Однажды смог все же навалился на город, закутал его в такое грязно-молочное облако, что замерли автомобили, лишь некоторые смельчаки ползли, словно черепахи, с включенными фарами, и даже по улицам приходилось идти медленно и осторожно, вытянув руку вперед, как слепому, оставшемуся без поводыря.
И вот посольство на «улице миллионеров» в Кенсингтоне, с обеих сторон — чугунные ворота, вход охраняли верзилы в черных цилиндрах, рядом Кенсингтонский дворец и парк, миллионеров, правда, не видно, зато появилась пара веселых трубочистов.
Высочайшей волей резидента мне было повелено штурмовать бастион истеблишмента — консервативную партию Англии, партию тех самых упрямых, твердолобых тори, основанную преумнейшим Бенджамином Дизраэли, который был не только искусным политиком, но и жизнелюбом, прижившим пятерых детей от жены своего приятеля, лорда Купера. Вот они, сытые буржуа, твердящие о морали, не зря их клеймил Ильич: «Везде и всюду они лицемерны, но едва ли где доходит лицемерие до таких размеров и до такой утонченности, как в Англии».
Своей миссией я был польщен, ведь гораздо сложнее работать не в тех кругах, которые еще держали в святых Бернштейна и Маркса и не бежали от советских дипломатов, как черт от ладана, а там, где закаленные, убежденные слуги золотого мешка. Значит, начальство меня ценило, если нацелило на цитадель, именно мне суждено было стать хитроумным змием-разрушителем, который вползет в набитую секретами нору и разворотит все консервативные ульи. Не лейбористскую партию мне поручили, — кому нужны эти работяги? — не продажные тред-юнионы, а тех, кто засел в Форин Оффисе и самых горячих министерствах…
Мне виделся подтянутый молодой человек в безукоризненном сугубо английском костюме в полоску, с тщательно подобранным галстуком (нравились галстуки выпускников аристократической школы в Итоне — темный фон, перечерченный ярко-голубыми полосами, страсть к полосам не покидает меня и по сей день), который небрежно беседовал на балу в Букингемском дворце с английским министром обороны, министр крутился, как уж на сковороде, увиливая от прямых ответов, и сам думал: «Боже мой, неужели у русских есть такие умные ребята? С ним ухо нужно держать востро! Да, он, пожалуй, осведомлен о состоянии нашей обороны лучше, чем я… И как молод! Как элегантен!»
Но до Букингемского было еще далеко — для начала нас с женой поселили в темном полуподвале на Эрлс-Террас, окнами выходившем на по-хорошему русскую помойку: так складывался обычный путь новоприбывших — от низшего к высшему, — большинство дипломатов жили скученно в коммуналках (посольство в те годы не оплачивало квартиры, а нам они были не по карману) и улучшали свои жилищные условия по мере отбытия своих коллег в родные пенаты. В этой трущобе мы счастливо провели первые полтора года вместе с родившимся сыном и совсем не чувствовали себя в положении английских пауперов — жизнь на родине была беднее, главное, беднее кислородом, а тут бушевали свободные спикеры в Гайд-парке, в галерее Тейт выставлялись запрещенные Ларионов и Гончарова, газеты и телевидение шокировали своими суждениями о Стране Советов — и сладки были эти запретные плоды.
Лондон ослепил меня разноликой суровой красотой, Лондон очень умен, Лондон — это интеллект, я до сих пор привязан к нему и с ужасом слушаю рассказы о том, что там скоро почти не останется англичан — все заполонят иммигранты. Облазил я и центр, и окрестности — это барин Карамзин разъезжал по нему на кебах, а нам, чернорабочим разведки, приходилось стаптывать много каблуков, ходить по самым хитрым переулкам, проверяться и проверять, и даже бегать, как случилось однажды, когда, пугая прохожих, я мчался с раскрытым атласом в руках, обливаясь потом, на встречу с агентом, бежал как на стометровке, ибо запутался на улицах, опаздывал и боялся, что агент уйдет.
Но самое главное, что в Лондоне на каждом шагу встречались англичане, и, Боже, как много было вокруг незавербованных англичан! [7]
Наглые тори, носители сверхсекретов, от которых зависели судьбы супердержавы (тогда все было super), рядами бродили по Оксфорд-стрит, попыхивая бриаровыми трубками, прогуливали отмытых и причесанных собак, один вид которых унижал тех, кто на первое место ставил борьбу за счастье человечества, до одурения курили в кинотеатрах (к счастью, сейчас запретили, а тогда — за дымом исчезал экран, особенно на последнем сеансе, после которого англичане, особенно отставные колониальные полковники, вскакивали с кресел и торжественно пели «Правь, Британия»), орали во всю глотку на собачьих бегах и на рынке Портабелло, толкались, галдели, спорили — где ты, моя жар-птица, моя золотая рыбка?
С Англией у меня складывалась странная любовь: чем больше она мне нравилась, тем нервознее я себя чувствовал, словно совершал нечто постыдное, и тогда скрипело перо и летели иронические плевки в адрес Альбиона: «Зевает зябко под окном румяный полисмен. Мне снится нынче странный сон: почтенный джентльмен. Он вежлив, выдержан и строг, он в юмор с детства врос. В одной руке — любимый кот, в другой — любимый пес». Вот так его!