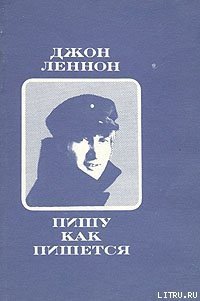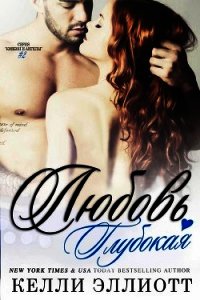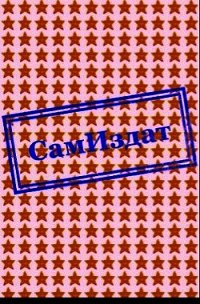На берегах Невы - Одоевцева Ирина Владимировна (книга жизни TXT) 📗
Первый, кто меня встретил в вестибюле, был Всеволодский. Он обхватил меня за плечи, заглядывая мне в лицо.
– Наконец-то! Вы что, больны были? Ай! Ай! Еще похудели. Но теперь поправились? Ну слава Богу, слава Богу!
Он повел меня с собой в класс и объявил радостно:
– Смотрите, вот она! Вернулась к нам. Ведь как мы все по ней скучали! И вот она с нами опять! Теперь мы уж ее не отпустим!
И я сразу почувствовала себя прежней, окруженной дружбой и любовью. Будто Гумилев не выставлял меня к позорному столбу, будто надо мной никогда не глумились все эти мои друзья и поклонники.
В тот же день я слушала лекцию Луначарского и профессора Энгельгардта, читавшего о китайской литературе, слушала с тем же увлечением, как прежде.
– А завтра будем праздновать юбилей Кони, – сейчас же сообщили мне. – Как хорошо, что вам удастся присутствовать на нем!
Да, это было очень хорошо. Кони мы все глубоко уважали. Я радовалась, что буду на его юбилее.
Кони исполнилось семьдесят пять лет. Возраст, казавшийся нам, слушателям «Живого слова», почти мафусаиловым.
Юбилей, стараниями Всеволодского, удался на славу. Стены ярко освещенного зала были разукрашены звездами и лавровыми венками с красными лентами.
На эстраде восседал сам юбиляр, окруженный группой ораторов, восхвалявших его в юбилейных речах.
Маленький, сухонький, сгорбленный Кони с тоской в глазах выслушивал многословные, пустозвонные приветствия Луначарского, Всеволодского, Юрьева, Студенцова и каких-то незнакомых нам комиссаров и представителей печати.
Но когда на эстраду поднялся один из слушателей «Живого слова» и начал пространно и восхищенно перечислять все события, приведшие Россию к революции, Кони вдруг заерзал на месте и поднял руку.
– Знаю, знаю, верю! Кончайте, голубчик, скорей. Невтерпеж мне!
Оратор поперхнулся на полуфразе.
– Благодарная Россия! Вам! вас!.. Благодарная Россия, – он покраснел, смутился и крикнул: – Поздравляет! – и, пятясь, спрятался за широкую спину Луначарского.
Кони быстро встал и трижды поклонился:
– Сердечно благодарю всех.
И ни с кем не прощаясь, мелкой, старческой походкой заковыляв к выходу, покинул актовый зал под аплодисменты присутствующих.
Мы гурьбой бросились за ним. Каждому из нас – ведь мы все были его учениками – хотелось лично поздравить его и пожать ему руку. Он, держась за перила, уже спускался по широкой лестнице. Швейцар подал ему шубу и распахнул перед ним дверь. Кони нахлобучил котиковую шапку и ринулся в сад.
Все это было похоже на бегство.
В саду он, оглянувшись с испугом, почти с отчаянием на нас, уже успевших выбежать вслед за ним на крыльцо, махнул рукой, будто отгоняя нас, сошел с расчищенной, утоптанной аллеи, ведущей к выходу, и, утопая по колени в снегу, направился к группе черневших деревьев.
Мы остановились, сбитые с толку. Что же это такое? Почему он бежит от нас, словно мы свора гончих, преследующая оленя?
Мы смотрели на него, застыв на месте, не смея двинуться за ним.
А он остановился около деревьев, спиной к нам. Постояв так несколько минут, он снова заковылял по снегу, уже не к нам, а прямо к выходу.
Вот он выбрался на расчищенную аллею и медленно и устало, еще более сгорбившись, дошел до распахнутых ворот, ведущих на улицу.
Вот черная тень его мелькнула на снегу и пропала.
Я все еще стояла в полной растерянности, не понимая, что произошло.
Это был первый юбилей, на котором мне привелось присутствовать.
Но разве таким должен быть юбилей?
А я могла из-за него простудиться. Ведь я выбежала на мороз в одном платье, без шубки и ботиков.
Вернувшись в «Живое слово», я зажила прежней восхитительной, полной жизнью.
Я была почти счастлива.
«Почти» – ведь воспоминание о моем «позоре» все еще лежало, как тень, на моей душе.
На лекции Гумилева я, конечно, не ходила. Мои друзья поддерживали меня в моем решении навсегда «вычеркнуть» из памяти Гумилева.
– Очень он вам нужен, подумаешь! – Теперь они, будто сговорившись, осуждали его за тогдашнее.
– Кто же не знает, что сомбреро – шляпа, а не плащ?
– Но почему же вы хохотали? – спрашивала я.
– Оттого, что он так смешно ломался. Мы не над вашими стихами, а над ним смеялись. Честное слово! Ей-богу! Неужели не верите?
Я качала головой. Нет, я не верила. И все-таки мне было приятно, что они так дружно осуждают Гумилева и по-прежнему восхищаются моими маркизами и гитанами.
Я перестала мечтать о славе, но снова начала писать стихи – в прежнем стиле, как бы назло Гумилеву.
Особенным успехом пользовалось мое стихотворение, кончавшееся строфой:
Да, казалось, я примирилась с тем, что с поэзией все кончено, что я из поэта превратилась в «салонную поэтессу».
Я стала ревностно обучаться у Кони ораторскому искусству, слушала лекции Луначарского, Энгельгардта и самого Всеволодского, мне ставили голос. Но с наибольшим удовольствием, пожалуй, я занималась ритмической гимнастикой по Далькрозу. В ней, несмотря на полную немузыкальность, я чрезвычайно отличалась.
Всеволодский даже спросил меня и другую успешную далькрозистку, согласны ли мы отправиться на год в Швейцарию к Далькрозу – разумеется, на казенный счет.
Конечно, это был чисто риторический вопрос – никого из «Живого слова» не отправили к Далькрозу. Но это свидетельствовало о планетарном размахе Всеволодского.
Хотя я и не ходила на лекции Гумилева, но я не могла не интересоваться тем, что на них происходит.
– Нет, разбора стихов больше не было. Никто больше не пожелал подвергаться такому издевательству. Но практические занятия – обучение, как писать стихи, – очень забавны.
Я жадно слушала.
– К следующему четвергу мы должны написать стихотворение на заданные рифмы, – рассказывает мне живословка, непохожая на остальных. Она – дама. И даже немолодая дама, годящаяся мне в матери. Очень милая, всем интересующаяся.
Она берет меня под руку и спокойно и уверенно убеждает меня:
– Вам непременно надо ходить на его занятия. Это просто необходимо. Вы многому научитесь у него. Забудьте обиду.
– Никогда! – упрямо отвечаю я. – Никогда в жизни!
Но я все же беру листок с рифмами, переписанными ею для меня. И соглашаюсь дать ей написанные мною стихи, с тем чтобы она выдала их за свои.
Ведь это меня ни к чему не обязывает. Я только проверю себя – могу ли я или не могу исполнить задание. Действительно ли я уже так безнадежно бездарна?
В тот же вечер я заперлась у себя в комнате и написала стихотворение на данные Гумилевым рифмы:
Я отдала его моей покровительнице – снова взяв с нее слово, что она выдаст его за свое.
И стала ждать, ни на что не надеясь.
А все-таки... Вдруг Гумилев похвалит его? Нет, этого не будет, уверяла я себя.
Но Гумилев действительно похвалил и даже расхвалил мое стихотворение.
Рифмы, оказалось, были взяты из его собственного усеченного сонета.
Гумилев сказал:
– Этот сонет можно было бы напечатать. Он, право, не хуже моего. Он даже чем-то напоминает пушкинскую «Черную шаль».