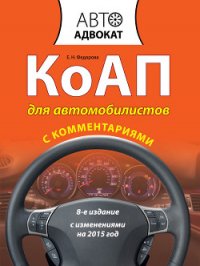На островах ГУЛАГа. Воспоминания заключенной - Федорова Евгения (электронные книги без регистрации txt) 📗
И вот – ее встреча с Алексеем Сергеевичем Алексеевым – родным братом Константина Сергеевича Станиславского – «того самого!». Того, с кем были поставлены первые домашние спектакли, с кем были выношены мечты о новом театре, о Художественном театре для народа, о театре, которым стал МХАТ…
Рябушинская (к сожалению, не помню ее имени), горячая поклонница обоих братьев, вскоре стала женой младшего. Теперь ее фамилия стала Алексеева. Но – увы! – для советских властей она не перестала быть Рябушинской.
В 36-м году обе сестры Рябушинские были арестованы. Как муж Рябушинской был взят и младший Алексеев.
Рябушинские были отправлены на Соловки отбывать свои десять лет. Алексеев с Лубянки не вышел…
Двоих его детей – мальчика 12-ти лет и девочку 14 лет – Станиславский взял на воспитание. Он даже добился свидания с женой брата и привозил детей на Соловки. Но на этом его участие и кончилось…
Эта история потрясла меня…
Станиславский тогда только что получил звание (первое в стране или одно из первых) народного артиста Союза, был награжден какой-то медалью…
И он принял ее, благодарил партию и правительство и, конечно, лично товарища Сталина! А ведь знал, как знала и жена Алексея, что тот ни в чем не виновен – ни в действиях, ни в мыслях, ибо оба они были настроены либерально и сочувственно к советской власти. Знал он и о том, что брат его замучен на Лубянке, погиб там (расстрелян?) при неизвестных обстоятельствах.
А он – Станиславский – к пиджаку медаль подвесил…
И сколько было его выступлений – и устно, и в печати, и в знаменитой «Жизни в искусстве» – нигде ни разу не обмолвился: «Мы с братом»… Как будто его и не существовало! Нигде, никогда и полусловом не обмолвился он и о кончине брата на Лубянке… Ни в те годы, ни позже.
Как не вспомнить пророческие слова Бруно Ясенского из эпиграфа к роману «Человек меняет кожу»: «…Бойся равнодушных; это только с их попустительства убивают и предают…»
Почему Алексееву вывезли из Соловков и водворили в центральный изолятор БелБалтЛага, она не знала. На допрос ее не вызывали. (Может у «народного» совесть зашевелилась и он стал для нее чего нибудь добиваться?)
Не узнала этого никогда и я. После трех недель нашего совместного житья в камере, в начале завязавшейся дружбы нашей, нас разлучили навсегда. Дожила ли она до реабилитации?..
Итак, я опять осталась одна. Я отдохнула от «Водораздела», от голода – тут ведь ежедневно давали пайку – 400 граммов, и при неподвижном образе жизни этого более или менее хватало.
Понемногу успокоились нервы. Сквозь броню равнодушия, душевной усталости и пустоты начал пробиваться новый родничок, новый источник энергии. Сначала крошечный, робкий, чуть слышный, а затем все более крепнущий, стойкий, набирающий силу.
Нет, почему же все кончено? Почему на всем надо поставить крест? Почему не пробовать бороться еще, постоять за себя? Зачем просто и покорно идти на смерть или в тюремный склеп? Ведь это никогда не поздно.
Почему не сказать им «да» – и снова бежать при первой возможности, только теперь бежать уже не с отчаяния, когда все равно, а с серьезной подготовкой, с расчетом, если не с уверенностью, то хотя бы с надеждой на успех? Вот какие мысли занимали мою голову долгими днями и ночами в камере центрального изолятора…
И я сказала «да», в душе показывая им хорошую дулю – дождетесь от меня «информации»!..
Меня обещали послать на «промышленную точку», где я должна буду вникнуть в «важные производственные обстоятельства», а проще говоря, узнать, не занимаются ли бывшие «вредители» из высококвалифицированных специалистов новым «вредительством» в масштабе лагерного производства.
Тогда, как и сейчас, мне все это казалось дикой галиматьей: как это я стану «вникать» в суть производства, которого наверняка не знаю и не понимаю, открывать какое-то вредительство, которого наверняка нет да никогда и не было – дичь и чушь!
Но я твердо решила опять бежать и сказала: «Попробую»…
Таким образом я попала на Пудожстрой…
II. На гулаговской «шарашке»
…Это действительно не было похоже на лагерь, как мне и обещали в 3-м отделе. И даже отдаленно не напоминало «Водораздел».
Есть где-то у Онежского озера гора Пудож. Там были обнаружены ценные и редкие (тогда, по крайней мере) породы руды с содержанием титана и ванадия. Беда была только в том, что эти ценные руды были тугоплавкие и в обычных доменных печах того времени не плавились.
И вот, неподалеку от Медвежки, под боком и бдительным надзором Главного управления и 3-го отдела БелБалтЛага заключенные специалисты – металлурги, электрики, химики и другие – создали экспериментальную установку вращающихся электропечей, в которых выплавлялся титан и ванадий под сильным давлением какого-то газа. Тогда это было, по-видимому, технической новинкой.
Опыты по добыче этих минералов и освоению электропечей проводились уже года три, и к тому времени, когда я попала на Пудожстрой, как именовалось это гулаговское предприятие, подходили к концу.
Теперь в основном решался вопрос, где строить обогатительную фабрику – непосредственно около самой горы Пудож или возить руду через озеро в Медвежку и построить ее здесь. Содержание металлов в руде было небольшое, и обогатительная фабрика была необходима.
Конечно, перевалка удорожала стоимость руды, но, с другой стороны, там, на Пудож-горе, не было электроэнергии и нужно было строить ТЭЦ.
Вот так, или примерно так, объяснили мне суть дела инженеры Пудожстроя.
Впрочем, опыты по выплавке этих металлов все еще продолжались. В производственном корпусе стояли три вращающиеся печи, где плавилась руда. Когда печи пускались в ход – на 36 или 72 часа, все приходило в волнение, никто не спал, все поминутно бегали в лабораторию, чтобы взглянуть на анализы, которые брались каждые пять минут. А два чертежника – я, которая была прислана сюда в этом качестве, и еще один, который был уже до меня, на огромных, прикрепленных к чертежным доскам листах миллиметровки выводили восемь или девять разноцветных линий, от клеточки к клеточке, от минуты к минуте, обозначая этими ломаными линиями и различными цветами выход разных химических элементов, названия которых, конечно, давным-давно улетучились у меня из головы.
…Кроме производственного в Пудожстрое был еще и жилой корпус, похожий на прибрежную виллу – несколько модерновую, из серого бетона, с большими зеркальными окнами и с плоской крышей. Все это находилось в каменистом саду, уступами спускавшемся до самого берега Онежского озера.
С трех сторон сад был окружен высоким железным забором, но без всякой колючей проволоки и вышек. Где-то в саду находился маленький флигелек вроде бани – «хитрый домик» на здешнем жаргоне. Туда вызывали заключенных, если наезжала «третья часть».
Единственный страж стоял возле проходной будки у ворот – такой, какая бывает на обычном заводе. Озеро зимой замерзало, и четвертая сторона Пудожстроя оказывалась не огороженной. Можно было надеть коньки и мчаться хоть до Повенца, хоть до самого Петрозаводска.
…Бежать!.. Бежать!.. Сколько дней, сколько ночей стучала эта мысль в мозгу. Сколько деталей обдумывалось в бессонные ночи: если так, то потом дальше – так… Или, если это окажется иначе, как тогда?..
Но даже в самых жарких мечтах, когда я видела себя уже в Москве, я не могла предположить, что будет дальше…
Что же дальше?… Ну вот, я добилась приема у Вышинского… (Каким образом? Ведь я – беглая заключенная!) Станет ли он меня слушать?.. Пересмотрят ли мое дело?.. Знает ли он обо всем, что творится в лагерях?
Разумом я уже и тогда понимала – бесполезно!..
И все равно: бежать!.. бежать!.. – вот чем я жила дни и ночи, проведенные на Пудожстрое, и то, что я так и не попыталась бежать оттуда, до сих пор камнем лежит у меня на душе и ощущается как самый горький позор моей жизни…
Да, только видимость охраны была установлена на Пудожстрое. Да и к чему было иначе? Слишком хорошо знало наше начальство, с кем оно имеет дело…