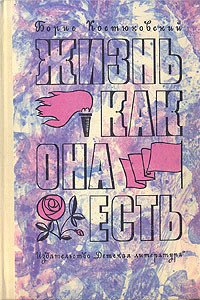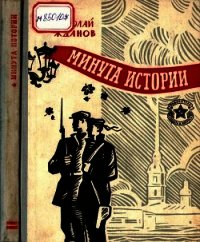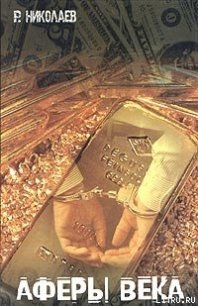Норильские рассказы - Снегов Сергей Александрович (книги бесплатно без txt) 📗
– Сегодня тебе хана, Андрюшка! Пиши письма родным!
К вечернему разводу скорость ветра достигала двадцати пяти метров в секунду. Ледяной ураган грохотал и выл, и сотрясал стены зданий. Обильный, мелкий, как песок, снег заваливал дороги, бешено крутился в воздухе – пурга выпала классическая: «черная». Самым скверным в ней было то, что мороз почти не спал, температура выше тридцати градусов не поднялась. Каждый из нас перед выходом наружу обматывал лицо шарфом или полотенцем, оставляя лишь щелку для глаз, многие натягивали фланелевые маски, хотя они хуже защищали от ветра. Мы знали, что ветер продолжает усиливаться и по дороге придется несладко.
На вахте мы увидели, что лагерное начальство знало, чем грозили Андрею, и приняло свои меры. Обычно нас сопровождали восемь-десять конвоиров, сегодня их было не меньше двадцати. Кроме того, они устроили обыск. Сами еле удерживаясь на ногах, они обшаривали нас с такой тщательностью, какой не бывало и перед праздниками.
– Ножи ищут, – прокричал мне в ухо Сенька Штопор. – Дурачье! Попки!
Ножей конвойные не нашли, но отобрали у кого-то бутылку спирта, а у двух других по буханке белого хлеба. Пока шел обыск, мы основательно промерзли, хотя от прямых ударов ветра нас защищали недавно выведенные стены цехов. Потом из крутящейся, освещенной прожекторами мглы донесся яростный голос Андрея:
– Равнение на переднего! Ногу не сбивать! Пошли. Мы двинулись, проваливаясь в свежие сугробы, наталкиваясь один на другого. За линией цеховых стен буря бешено обрушилась на нас. Только здесь, в открытой тундре, мы поняли, что такое настоящая «черная» пурга. Предписанный нам порядок движения – по пять в ряд, каждый идет самостоятельно – был мгновенно разрушен. Мы судорожно хватались друг за друга, ряд смыкался с рядом. Теперь мы противопоставляли буре стену человек в десять-двенадцать, каждый крепко держал под руки своих соседей. Колонна, как и прежде, растягивалась на полкилометра, но это было уже не механическое сборище людей, подчиненных чьей-то внешней и чуждой воле, но одно, предельно сцементированное гигантское тело.
Дорога пролегала вдоль линии столбов и мачт, соединявших электростанцию с промплощадкой. Большинство лампочек было уже разбито пургой, но некоторые еще пронизывали тусклым сиянием неистово несущийся снег. У одного из столбов мы увидели стрелка, сраженного бурей. Ветер катил его в тундру, стрелок, не выпуская из рук винтовки, отчаянно цеплялся за снег и вопил – до нас едва донесся его рыдающий голос. Мы узнали его – это был хороший стрелок, простой конвоир, он не придирался к нам по пустякам. Сенька Штопор дико заорал, вероятно, не меньше десятка рядов услыхали его могучий рев, заглушивший даже грохот пурги:
– Колонна, стой! Взять стрелочка!
Догоняя передних, мы передавали приказание остановиться. Задние, налетая на нас, останавливались сами. Человек пять, не разрывая сплетенных рук, подобрались к стрелку, подтащили его к колонне. Он шел в середине нашего ряда, обессиленный, смертной хваткой схватясь с нами под руки. Винтовку его нес крайний в ряду, у него одного была свободна вторая рука. Изредка ветер вдруг на мгновение ослабевал, и тогда мы слышали благодарные всхлипы стрелка:
– Братцы! Братцы!
Еще три или четыре раза вся колонна останавливалась на несколько минут, и мы, передыхая, знали, что где-то в это время наши товарищи выручают из беды обессиленных конвоиров.
Великая сила – организованный человеческий коллектив! Нас шло две тысячи человек, каждый из нас в эту страшную ночь был бы слабее и легче песчинки, но вместе мы были устойчивее горы. Мы пробивали бурю головой, ломали ее плечами, крушили ее, как таран крушит глиняную стену. Ветер далеко унесся за обещанные тридцать метров в секунду, мы узнали потом, что в час нашего перехода по тундре он подбирался к сорока. И он обрушивался на нас всеми своими свирепыми метрами, он оглушал и леденил, пытался опрокинуть и покатить по снегу, а мы медленно, упрямо, неудержимо ползли, растягиваясь на километр, но не уступая буре ни шагу.
У другого столба мы увидели Андрея. Пурга далеко отбросила его в сторону от колонны, он еще исступленно боролся, напряжением всех сил стараясь удержаться на ногах. Огромная черная колонна, две тысячи человек, двигалась мимо, не поворачиваясь. Никто не отдал приказа остановиться, а если бы и был такой приказ, то его не услышали бы.
Недалеко от лагерной вахты, на улице поселка, где не так бушевал ветер, мы, размыкая руки, выпустили наружу спасенных конвоиров. Стрелки схватили свои винтовки, выстроились, как полагалось по уставу, вдоль колонны, но, измученные, не сумели или не захотели соблюдать обычный порядок. Несчитанные, мы хлынули в распахнутые ворота лагеря. Пурга неистовствовала еще три дня, мы в эти дни отсиживались по баракам, отсыпаясь и забивая козла. А на четвертый день, когда ветер стих, в тундре нашли замерзшего Андрея. Перед смертью он бросил винтовку, пытался ползком добраться до поселка. Видевшие клялись, что на лице его застыло ожесточение и отчаяние.
Духарики и Лбы
Я, конечно, духариком не был. Для этого у меня не хватало ярости, того уважаемого в лагере ухарства, когда жизнь ставится ни против чего – из одного желания поиграть своей головой. Я не цеплялся особенно за жизнь, но и не пренебрегал ею, как второстепенной вещью. Меня всегда одолевало любопытство посмотреть, что же в конце концов выйдет из невразумительной штуки, названной моей жизнью.
Еще меньше меня можно было причислить к лбам. Невысокий и широкоплечий, только перебравшийся за тридцать годков, я по возрасту и по силе мог бы, пожалуй, занять местечко среди лбов. Зато мне недоставало других непременных кондиций. Лоб, в общем, вполне удовлетворен своим лагерным существованием. Он немыслим вне лагеря с его каптерками, кухнями, бесплатным кино и недорогими девками с большой пропускной способностью. На воле лоб сникает, он неспособен обеспечить себе самостоятельно сносное существование. На густо же унавоженной лагерной почве он расцветает, как ее естественное порождение. Доходяги лишаются последних сил, работяги вкалывают вовсю, придурки гнут спины в вонючих лагерных канцеляриях, лорды-начальники трудят мозги на производственных объектах – и все это делается, чтобы создать удобства лбам. Лоб шагает по зоне в одежде первого срока, повар черпает ему погуще и побольше, нарядчик не торопится гнать его на развод, культурник первому вручает талончик на новую кинокартину. Не сомневаюсь, что именно лбы придумали поговорку: «Кому лагерь, а кому дом родной!» Во всяком случае, они с вызовом бросают ее в лицо начальству – своему и приезжему, хоть и знают, что их за это не похвалят. Начальство почему-то обижается, когда лагерь сравнивают с родным домом, хоть дома иным зачастую хуже. Обычный его ответ исчерпывается угрюмой фразой: «Вы здесь не в санатории – понимать надо!»
Нет, я не был лбом, меня попросту дурно воспитали. Мать твердила мне в школьные годы: «Лакеев у тебя нет – убери за собой!» Я бездоказательно считал, что только заработанный собственными руками хлеб вкусен. И хоть до меня доходила лишь половина того, что я вырабатывал, я все же не был способен выдрать у другого изо рта недоданную мне часть. Три зверя грызли меня ежедневно беспощадными пастями, меня сжигали три жестоких страсти, абсолютно неведомые нормальному лбу – тоска по воле, тоска по женщине, тоска по жратве. Я знал, что на воле мне сегодня было бы, возможно, и хуже, чем в лагере. Там, на воле, меня заставили бы в конце концов и клеветать на соседей, и предавать друзей, и кричать при этом «ура!» по каждому поводу, а пуще без повода. Здесь же можно молчать и сохранять про запас чистую душу, честно трудиться и отдыхать… Все равно, там была воля, широкий простор на все стороны, земля без колючей проволоки, небо без границы – я бредил волей. А женщины мне были нужны не те, что нас окружали. Женщины садились рядом со мной в кино, томно толкали меня бедрами на разводе, брали меня под руку на переходе от зоны лагеря к заводской, намекали, что могут уединиться на полчасика в кусточки под заборчиком – женщины были кругом. Я же плотью и мыслью стремился к ЖЕНЩИНЕ. Они угадывали мое состояние, но не разбирались в нем. Они не могли предложить мне того, в чем я нуждался. Это было сильнее меня. Я не мог примириться с тем, что женщина не судьба, а отправление, нечто необходимое, но не чистое – хорошо помойся после свидания… Нет, пусть это будет на день, на час (над вечной страстью я сам первый посмеюсь), но это должен быть непременно поворот жизненного пути, слияние самого тебя с недостающей твоей половиной… Представляю себе, как хохотали бы наши лагерные подружки, если бы я вздумал при встрече в уединенном уголке излагать им эту забавную философию. Любовь они признавали лишь такую, которую можно взять в руки. Я мог, конечно, предложить им забаву для рук, но что было делать мне с моей душой?