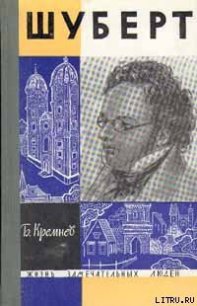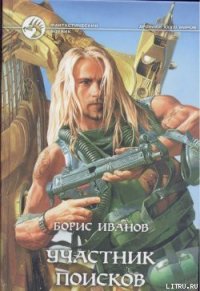Бетховен - Кремнев Борис Григорьевич (читать хорошую книгу полностью .txt) 📗
Бетховен».
«Господину Шуппанцигу. Не посещайте меня. Я не дам никакой академии.
Бетховен».
«Господину Шиндлеру. Не посещайте меня до тех пор, пока я сам не позову. Никакой академии.
Бетховен».
И все-таки академия состоялась. 7 мая 1824 года у Кернтнертор-театра творилось нечто невообразимое. Всю улицу забили экипажи. Они заставили мостовую в два, а кое-где и в три ряда – щегольские кареты с гербами и вензелями, извозчичьи фиакры, дорожные коляски, забрызганные грязью и рябые от пыли и дождя, по всему видать, прибывшие издалека.
Граф Франц Брунсвик проделал утомительный путь из Венгрии, чтобы услышать новое творение своего друга.
Баронесса Эртман, одна из лучших исполнительниц фортепианных произведений Бетховена, приехала на концерт из провинции, где стоял полк, которым командовал ее муж-генерал. С Доротеей Эртман Бетховена связывала давняя дружба, и, быть может, не только она одна. Когда у Доротеи умер сын, Бетховен пришел к баронессе. Он не стал произносить избитых, жалких слов, а молча сел за рояль и заиграл. Его импровизация выразила столько искреннего горя, тепла и участия, что осиротевшая мать разрыдалась. И в слезах нашла облегчение.
Старый и верный друг барон Змескаль, несмотря на жестокий приступ подагры, приковавшей его к постели, все же прибыл в концерт. Его внесли в театр на носилках.
По тротуарам медленным и непрерывным потоком струилась толпа, яркая, нарядная, шумная. Казалось, в тот тихий весенний вечер вся Вена пришла в движение и устремилась к Кернтнертор-театру. У подъезда то и дело вспыхивали короткие схватки – из-за билета, случаем оказавшегося лишним. В кассе билетов давно уже не было. Еще задолго до концерта, сообщал своему дяде Карл, посаженный в кассу специально для контроля, «люди с боем расхватали все места».
Пока сотни людей в давке осаждали вход, озабоченные, как бы проникнуть в театр, тот, ради кого они собрались, был озабочен другим. Гневный и растерянный, метался он по квартире в поисках концертного фрака. Однако искать было нечего – черного фрака, приличествовавшего торжественному случаю, Бетховен не имел.
«Мы возьмем с собой все, – в предконцертной спешке торопливо записывал Шиндлер в разговорную тетрадь, – захватим и ваш зеленый фрак, вы наденете его на месте… В театре темно, никто не заметит, что он зеленый…»
«О великий Бетховен! – с горечью и сарказмом восклицает композитор. – Ты даже не в состоянии сшить себе черный фрак…»
«Нынче сойдет и зеленый, – успокаивает Шиндлер, – а там через несколько дней поспеет и новый… Маэстро, собирайтесь, – поторапливает он, – и не спорьте, иначе вы все напутаете… Итак, успокойтесь и во всем слушайтесь нас… Быть по сему…»
Зрительный зал возбужденно гудел. Театр был заполнен до отказа. Даже в проходах стояли люди, и капельдинеры, сбившись с ног, безуспешно пытались куда-либо их пристроить. Только одна ложа зияла нелепой пустотой – императорская. Сколько венцев рвались в тот вечер в театр, будто к источнику с живой водой. И не могли попасть. А те, для кого это было легче легкого и проще простого, не пришли. Ни император Франц, ни все члены августейшей фамилии (эрцгерцог Родольф, правда, находился в Оломоуце) не почтили своим высоким присутствием академию неугодного двору композитора. Там, где с боем бралось каждое, даже стоячее место на галерке, обидно пустовала целая ложа, вместительная и удобная.
Появление Бетховена на сцене вызвало овацию. Рядом с ней хилыми показались аплодисменты, которыми публика встретила Зонтаг и Унгер, хотя они были кумирами Вены. Но буря восторга разразилась в театре, когда под его сводами зазвучала Девятая симфония. Грохот литавр во второй части вызвал взрыв аплодисментов, настолько мощный, что он перекрыл оркестр.
Из всех, кто был в зале, один лишь Бетховен не обратил на аплодисменты ни малейшего внимания. Не отрывая глаз от партитуры на дирижерском пульте, он продолжал невозмутимо размахивать руками, теперь уже совсем не в такт. Впрочем, никого из музыкантов это не сбило с толку. Оркестр следил не за Бетховеном, а за палочкой стоявшего рядом с ним капельмейстера Умлауфа.
Едва симфония кончилась, как ураган оваций сотряс театр. Казалось, люди потеряли голову. Они повскакали с мест, бросились к просцениуму, забили проходы, подняв руки над головой, бешено хлопали в ладоши, топали ногами, кричали, подбрасывали шляпы, носовые платки.
И лишь один человек оставался абсолютно спокойным и безучастным в беснующемся от радости и счастья зале. Это был Бетховен. Стоя спиной к публике, он и не подозревал, что творилось с ней. Только после того, как Каролина Унгер, сияющая и плачущая, взяла его за руку и повернула лицом к залу, он понял, какой был успех.
Бетховен кланялся, а овация все росла. Ей положило конец только грубое вмешательство полиции. Полицейские власти перепугались, и неспроста: Бетховена, неугодного двору композитора, приветствовали куда продолжительнее, чем положено придворным этикетом приветствовать самого государя-императора. В этом было что-то грозное и вызывающее.
Успех академии был неслыханным. Но он оказался не подкрепленным материально. Концерт принес композитору небольшую сумму – всего триста флоринов. Слишком велики были расходы, и слишком мала была выручка. Несмотря на полный сбор, денег в кассу поступило немного. Все держатели абонементов– а их было множество – не заплатили ни гроша,
Бетховен, ослепленный любовью к племяннику, последние годы думал только об одном: сбить побольше денег, обеспечить будущее «мальчика». Поэтому, когда после концерта он вернулся домой и Шиндлер отдал ему несчастные три сотни, он от неожиданности и горя пошатнулся и чуть было не упал на пол. «Мы, – вспоминает Шиндлер, – подхватили его и уложили на софу. До поздней ночи оставались мы с ним. Он ничего не требовал, не издал ни единого звука. Только убедившись, что он уснул, мы тихо удалились. Назавтра прислуга нашла его спящим, в той же самой позе и в том же самом платье».
Мысль о проклятых деньгах теперь почти никогда не покидала Бетховена, сверлила мозг, изматывала душу. Упрямо стремясь к богатству, химерическому и призрачному, – он сам где-то в глубинных тайниках разума понимал это, но поделать с собой ничего не мог, – он настоял на повторении концерта.
Оно произошло утром 23 мая, когда уже наступил «мертвый сезон» и публику больше влекло в Венский Лес, нежели в концерт.
Вторая академия прошла при полупустом зале.
Такого удара Бетховен никак не ожидал. Оглушенный, он потерял способность спокойно размышлять, беспристрастно и по справедливости оценивать факты, какими неприятными они ни были бы. Его душила жгучая ярость, и он должен был ее излить на кого-нибудь.
Козлом отпущения был избран Шиндлер. Пригласив после концерта Шиндлера, Умлауфа и Шуппанцига на обед в Пратере, Бетховен обвинил своего секретаря в неблаговидных финансовых махинациях, больше того – в прямом обмане. Бедняга Шиндлер, ошеломленный чудовищным обвинением, тщетно пытался доказать свою невиновность. Он напрасно ссылался на то, что Карл все время не вылезал из кассы, контролируя каждый грош. Разъяренный Бетховен ничего и слушать не хотел. Заступничество Умлауфа и Шуппанцига только подлило масла в огонь. На них тоже обрушились оскорбления.
Смертельно обиженный Шиндлер, а следом за ним Умлауф и Шуппанциг покинули ресторан.
Бетховен остался один.
Одиночество все плотнее обступало его, сжимало холодным, нерасторжимым кольцом, вырваться из которого теперь не было никакой возможности.
Бетховен чувствовал себя бесконечно одиноким в стране, где свирепствовала хищная, тупо-жестокая и всеохватывающая реакция. Разговорные тетради пестрят гневными высказываниями о меттерниховском безвременье, о политическом удушье, о свободе, втоптанной в грязь. В этих разговорных тетрадях, пишет Шиндлер, «содержались самые грубые и ожесточенные выпады против императора, а также наследного принца (нынешнего императора) и прочих высокопоставленных особ царствующего дома. Это, к сожалению, была излюбленная тема Бетховена: в разговоре Бетховен постоянно возмущался властями предержащими, их законами и постановлениями».