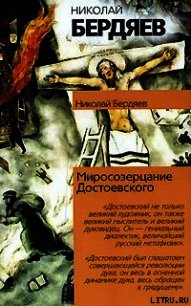Невероятная жизнь Фёдора Михайловича Достоевского. Всё ещё кровоточит - Нори Паоло (онлайн книга без TXT, FB2) 📗
Третий вдруг приходит в негодование из-за того, что сказал первый, и «кричит ему то же самое существительное, но в смысле уже брани и ругательства».
Снова подает голос второй, но уже возмущенный реакцией третьего, и останавливает его, мол, «мы рассуждали спокойно, а ты откуда взялся?» Эту мысль он доносит с помощью все того же «заповедного слова».
И вдруг четвертый мастеровой, самый младший, радостно приподымая руку, словно найдя выход из затруднения и желая положить конец спору, «кричит… Эврика, вы думаете? Нашел, нашел? Нет, совсем не эврика и не нашел; он повторяет лишь то же самое нелексиконное существительное, всего одно слово, но только с восторгом, с визгом упоения, и, кажется, слишком уж сильным, потому что шестому, угрюмому и самому старшему парню, это не „показалось“, и он мигом осаживает молокососный восторг паренька, обращаясь к нему и повторяя угрюмым и назидательным басом… да всё то же самое запрещенное при дамах существительное, что, впрочем, ясно и точно обозначало: „Чего орешь, глотку дерешь!“ И так, не проговоря ни единого другого слова, они повторили это одно только излюбленное ими словечко шесть раз кряду, один за другим, и поняли друг друга вполне», – пишет Достоевский, который, что бы там ни говорили все Набоковы мира, был блистательным писателем, согласитесь.
Следующий выпуск «Дневника писателя» он начинает с упоминания статьи в конкурирующей московской газете «Голос», утверждавшей, что очерк Достоевского о языке русского народа произвел фурор среди московского торгового люда, который раскупал последний номер «Гражданина» с невиданной доселе скоростью.
Как отметил Фёдор Михайлович, московский журналист из «Голоса» давал понять, что читатели Достоевского – простые малообразованные люди, лавочники, которые купили журнал «Гражданин» только потому, что там было написано про «это». Писатель заверил, что он очень рад, если его читают рыночные торговцы, и хотел бы, чтобы их становилось все больше, потому что он, в отличие от московского журналиста, хорошего мнения о лавочниках и прекрасно к ним относится.
В 1874 году Фёдор Михайлович подписал договор на издание романа «Подросток», который начал печататься в следующем году. А в августе 1875 года в семье Достоевских родился младший ребенок – сын Алексей.
Биографы сходятся во мнении, что это был самый безоблачный период в жизни писателя.
Может быть, именно поэтому «Подросток» остается для меня романом, который я так и не понял.
Трудности начинаются с первых же страниц – кажется, что автор кто-то другой, совсем не тот, кто создал «Село Степанчиково и его обитателей», «Записки из подполья», «Игрока», «Преступление и наказание», «Идиота» и «Бесов»; не тот, кто еще напишет «Братьев Карамазовых». В «Подростке» я чувствовал какую-то нервозность, растерянность – и ничего не понимал. Разумеется, причину нужно искать в себе самом, но мне кажется, что дело может быть и в безоблачной жизни Достоевского: она не идет на пользу писательству.
Жизнь вошла в тихое русло? Езжай путешествовать, ходи на прогулки, отправляйся на рынок, купи что-нибудь. Но, чтобы писать, тебе должно быть плохо: если ты берешься за перо, когда у тебя все хорошо, то это будешь уже не ты и напишешь такого вот непонятного (мне, по крайней мере) «Подростка».
Такое безоблачное состояние противопоказано литературе. Или оно, или писательство. Иначе это будешь уже не ты.
Конечно, в «Подростке» тоже есть удачные моменты, например, когда главный герой примерно на сотой странице заходит в трактир на Петербургской стороне, и мы узнаем, что «в комнате было много народу, пахло пригорелым маслом, трактирными салфетками и табаком. Гадко было». Еще одно описание в копилку петербургским турагентствам. Но в целом, учитывая, что подобными «отзывами» роман не изобилует, в моем личном рейтинге «Подросток» – это катастрофа.
В 1878 году Достоевские переехали в дом номер пять по Кузнечному переулку и заняли квартиру, в которой сейчас находится музей Достоевского.
Музей, в котором я очень люблю бывать. В этих комнатах, в этих стенах, обжитых Достоевским и его домочадцами, ощущаешь то умиротворение, которое наконец-то снизошло на его семью, в первую очередь благодаря стараниям (необыкновенной) женщины – Анны Григорьевны Достоевской.
В конце 1877 года Достоевского избрали членом-корреспондентом Академии наук, в которой уже состояли Толстой и Тургенев.
В 1878 году [76] ему диагностировали эмфизему легких.
В том же 1878 году от приступа эпилепсии умер младший ребенок Достоевских, сын Алеша.
Весь год Достоевский работал над романом «Братья Карамазовы», который радикально отличался от «Подростка». Первые главы появились в печати в январе 1879 года.
На мой взгляд, отец братьев Карамазовых, Фёдор, – любопытнейший персонаж; я хорошо помню его разговор с младшим сыном Алешей, в котором воплотилась душа Карамазовых (тогда как в Иване Карамазове – ум, а в Дмитрии – плоть), помню, что отец отвечал Алеше, когда тот признался, что хочет уйти в монастырь:
«Так ты к монахам хочешь? А ведь мне тебя жаль, Алеша, воистину, – сказал отец, – веришь ли, я тебя полюбил… Впрочем, вот и удобный случай: помолишься за нас, грешных, слишком мы уж, сидя здесь, нагрешили. Я всё помышлял о том: кто это за меня когда-нибудь помолится? Есть ли в свете такой человек? Милый ты мальчик, я ведь на этот счет ужасно как глуп, ты, может быть, не веришь? Ужасно. Видишь ли: я об этом, как ни глуп, а все думаю, все думаю, изредка, разумеется, не все же ведь. Ведь невозможно же, думаю, чтобы черти меня крючьями позабыли стащить к себе, когда я помру. Ну вот и думаю: крючья? А откуда они у них? Из чего? Железные? Где же их куют? Фабрика, что ли, у них какая там есть? Ведь там в монастыре иноки, наверно, полагают, что в аде, например, есть потолок. А я вот готов поверить в ад только чтобы без потолка; выходит оно как будто деликатнее, просвещеннее, по-лютерански то есть. А в сущности ведь не все ли равно: с потолком или без потолка? Ведь вот вопрос-то проклятый в чем заключается! Ну, а коли нет потолка, стало быть, нет и крючьев. А коли нет крючьев, стало быть, и все побоку, значит, опять невероятно: кто же меня тогда крючьями-то потащит, потому что если уж меня не потащат, то что ж тогда будет, где же правда на свете? Il faudrait les inventer [77], эти крючья, для меня нарочно, для меня одного, потому что, если бы ты знал, Алеша, какой я срамник!..»
Лакей Карамазовых, сирота Смердяков, воспитанный слугами Марфой Игнатьевной и Григорием Васильевичем, рос «безо всякой благодарности», был он «мальчиком диким и смотрел на свет из угла. В детстве он очень любил вешать кошек и потом хоронить их с церемонией. Он надевал для этого простыню, что составляло вроде как бы ризы…»
У Смердякова была своя вера, отличная от той, которой пытался учить его Григорий и которая его не устраивала.
«Григорий выучил его грамоте и, когда минуло ему лет двенадцать, стал учить священной истории. Но дело кончилось тотчас же ничем. Как-то однажды, всего только на втором или третьем уроке, мальчик вдруг усмехнулся.
– Чего ты? – спросил Григорий, грозно выглядывая на него из-под очков.
– Ничего-с. Свет создал Господь Бог в первый день, а солнце, луну и звезды на четвертый день. Откуда же свет-то сиял в первый день?
Григорий остолбенел».
Происхождение фамилии Смердякова объясняют двояко: она могла быть произведена от слова «смерд» («раб», «холоп») или от глагола «смердеть». Из всех его странных поступков, о которых узнает читатель, самым бесчеловечным выглядит даже не убийство, а то, что по его наущению маленький Илюша подбрасывает голодной Жучке кусок хлеба с воткнутой в него булавкой. Точно так же, как в «Преступлении и наказании» сон Раскольникова, в котором пьяный хозяин забивает до смерти тощую клячу, производит даже более страшное, жуткое, издевательское впечатление, чем сцена двойного убийства.