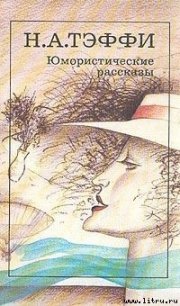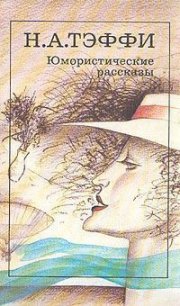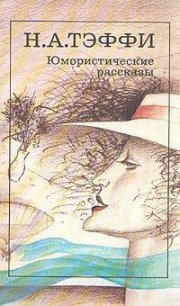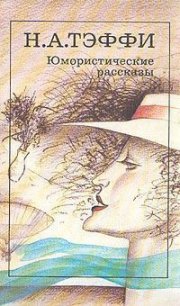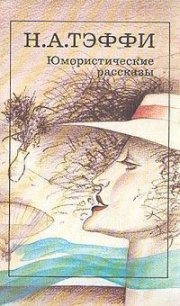Кусочек жизни. Рассказы, мемуары - Лохвицкая Надежда Александровна "Тэффи" (читаем книги .txt, .fb2) 📗
Лиза слышала, как он вполголоса спросил у шофера: «Она сегодня в хорошем настроении?» — и сел к ним в автомобиль. Американка долго говорила с ним о каких-то бумагах и, по-видимому, отлично во всем разбиралась.
Потом поехали выбирать платья в один из лучших домов Парижа. Американка капризничала, издевалась над манекеншами, бранила фасоны неприличными словами, коротко, словно лаяла. Все отвечали ей чарующими улыбками.
Вечером прибежал прогнанный доктор. Американка сказала ему: «Вы ничего в медицине не понимаете». Подарила ему 1000 франков. Проходя мимо Лизы, он смущенно пробормотал: «Большая оригиналка!»
Ночью пошли те же истории. На следующий день выгнала шофера, отказалась от всех заказанных вчера платьев. Лиза вертелась как на пружинах, откликалась на имена всех кошек, собак, лошадей и мужей своей хозяйки и урывала минутки, когда можно было сбегать к себе в комнату повалиться на постель и поплакать.
— Я не могу уйти. Мне есть нечего. И нечего послать матери в Москву. У меня мать умирает. Я не могу уйти.
В четвертую ночь, под утро, когда ее разбудили в пятый раз, только для того, чтобы спросить, отослать ли зеленую шляпу или оставить, она вдруг села на кресло у кровати и, спокойно глядя прямо в лицо американке, сказала:
— Я сегодня уйду от вас. Я больше не могу.
Та молча, с большим удивлением, смотрела.
— Я не могу. У меня нет морального удовлетворения.
— Чего нет? — с любопытством переспросила та и потом повторила, удивляясь и словно радуясь новинке: — Мо-раль-ного удо-вле-творения.
— Я сиделка, мое дело ухаживать за больными, облегчать страдания, — медленно и толково объясняла Лиза. — А у вас я совсем замоталась, и все по пустякам. Я готова в десять раз больше работать, но настоящую работу. А ведь вы измываетесь над людьми за свои деньги. Я этого не могу. Душа болит.
— Душа? — радостно удивилась американка. — Значит, это вам мешает?
— Н-не мо-гу! — прошептала Лиза и всхлипнула.
— Ну, ну, идите, идите, — все так же удивленно проговорила американка и тихонько дотронулась до ее плеча.
Лиза не могла уснуть. Ей все виделось удивленное лицо американки.
— Нет, она все-таки что-то почувствовала. Что-то до нее дошло. Она человек, человек, испорченный богатством и раболепством, но душа у нее есть.
И ей представлялось, как она пробудит эту душу, направит нежно и ласково на доброе и светлое.
— Люди или бедны, или жадны. Вы только это в них и видели, только тем и занимались, что мучили их вашими деньгами. И вот смотрите, я, нищая, отвергла их и ухожу.
И ей снились приюты, богадельни, больницы, созданные преображенной американской душой.
Она плакала от счастья.
— И все это, в сущности, сделала я.
Под утро она заснула, заспалась, вскочила, испуганная, но, вспомнив о «перевороте», радостно побежала к своей хозяйке. Но у дверей ее спальни остановилась. Остановил ее голос американки, громко и отчетливо говорившей:
— …чтобы прислали новую. Эту, русскую кобылу, я сегодня ночью выгнала. И не давайте ей за две недели вперед, как заплатили той гусыне. Она прожила всего четыре дня, она истрепала мне все нервы, она дура, она хуже той воровки, которая унесла мое кольцо. Вон ее из моего дома. Вон! И чтоб не смела… и чтоб не смела…
Два романа с иностранцами
Были тихие сумерки.
По стене бегали огни автомобилей, вскрикивали их гудки, звякал трамвай. Острым буравчиком сверлил ухо призывный звонок соседнего кино.
И все-таки для тех двух женщин, которые сидели, поджав ноги, на колченогом диванчике, сумерки эти были тихими, потому что день со всеми его тревогами и заботами кончился, и в эти два-три часа перед сном можно позволить себе ни о чем не думать и не беспокоиться.
В такие тихие сумерки разговор ведется душевный. Шагать по полутемной комнате неудобно, надо сидеть спокойно. От спокойной позы и мысли делаются сосредоточеннее, не скачут с предмета на предмет. Самые привычные врали теряют свое вдохновение, становятся проще и искреннее.
Молодежь в такие минуты охотно говорит о смерти. Люди постарше — о любви. Старики — о разных приятных надеждах.
Те две дамы, которые поджали ноги на колченогом диванчике, были уже не первой молодости и поэтому говорили о любви.
— Нет, теперь все для меня кончено, — сказала одна.
Если бы в комнате было светлее, мы увидели бы, что у нее очень усталое лицо, погасшие глаза и плечи ее закутаны в серый пуховый платок, всегда чуть-чуть разодранный на плече, уютный, пахнущий духами и папиросами, словом — традиционный платок русской скорбящей женщины.
— Не преувеличивай, Наташа, — ответила другая. — Ты еще молода. Кто знает.
— Молода? — с горьким смешком сказала Наташа. — Нет, милая моя, после того, что я пережила, я себя чувствую семидесятилетней. Сама виновата. Не надо было изменять памяти Гриши.
— А сколько же лет ты была за Гришей?
— Лет? Лет! Пять недель. Познакомились перед самой эвакуацией. Сразу и повенчались. А через пять недель он выступил в поход. Больше мы и не встретились. Он был очень мил.
— Ну, на пять-то недель всякого бы хватило.
— Н-не знаю. Н-не думаю, — обиженным тоном сказала Наташа.
— А что, собственно говоря, у тебя вышло с этим твоим женихом-французом? Я ведь толком ничего не знаю. Мы тогда встречались редко, когда он за тобой ухаживал. А потом слышу — свадьба расстроилась. Что он, разлюбил тебя, что ли?
— Нет-нет. Он говорит, что не разлюбил. Родители не позволили. Впрочем, это очень сложная история, — вздохнула Наташа.
— Моя история была тоже очень сложная, однако я не вздыхаю, а хохочу. Ты стрелялась? Отравлялась?
— Нет, что ты, грех какой!
— Вот видишь! А еще вздыхаешь. А я вот даже отравлялась, а как вспомню, так от смеха не удержаться. Ну до того хорошо, до того хорошо!
— Чего же тут хорошего, если отравилась?
— В этом-то, конечно, хорошего мало. Очень тошнило. Но именно оттого, что отравлялась, все так смешно получилось. Ну да я потом расскажу. Сначала ты.
— Ладно. Только с чего начать… Ну, вот, как ты уже знаешь, работала я у модистки и познакомилась с мадам Ружо, с Мари. Очень она была милая. Мы подружились и затеяли открыть вместе магазин. Муж у нее тоже был славный, инженер. Дело у нас пошло довольно недурно. Мы с этой Мари были прямо неразлучны. Днем в мастерской и в магазинчике, вечером в синема, или играем в карты. Я у них и обедала, чтобы не вести своего хозяйства. И вот, бывал у них довольно часто сослуживец самого Ружо, мосье Эмиль. И вот, короче говоря, влюбился в меня этот Эмиль до зарезу. Он мне сначала не особенно нравился, так казался пустеньким, банальным типом. Но потом, понемножку, начал он меня интересовать. Виделись чуть не каждый день, и он так настойчиво, так пламенно и так восторженно выражал всячески свою любовь, что я невольно стала относиться к нему внимательнее.
— Вот, вот, вот! Именно! Именно, — перебила слушательница.
— Что «именно»? — удивилась рассказчица.
— Нет, ничего, это я так.
— Ну, так вот, стала я относиться к нему внимательнее. А тут Мари подливает масла в огонь: «Повр Эмиль! Умирает, мол, повр Эмиль. И такой чудный человек и состоятельный, а ты одинокая, кто о тебе позаботится, выходи за повр Эмиля». А Эмиль каждый вечер, после обеда настоятельно требует брака. И эта настоятельность стала меня трогать. Он начал мне нравиться. [94]
— Вот, вот! — перебила слушательница.
— Что такое «вот»? Чего ты все пищишь?
— Ничего, ничего, это я так.
— Муж Мари тоже очень меня уговаривает. И, представь себе, стала я замечать, что этот самый Эмиль начинает мне очень даже нравиться. Но все-таки на брак решиться еще не могла. Хотелось проверить и себя, и его. Вернее, только себя, потому что в нем сомневаться было бы прямо смешно. И страдает, и блаженствует, и черт его знает что — прямо какая-то смесь Ромео с Джульеттой. Долго я его томила, наконец сказала: «Мне кажется, что я смогу вас полюбить». Так он — ты представить себе не можешь! — прямо плакал. Он от восторга кинулся целовать Мари. Меня не смел, так ее. И смешно, и трогательно. И тут же решил выписать в Париж родителей, чтобы познакомить меня. Муж Мари объяснил мне, что родители у него состоятельные, и он хотел непременно жениться с их одобрения.