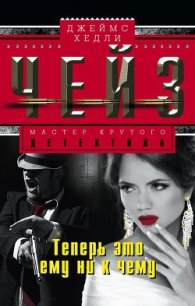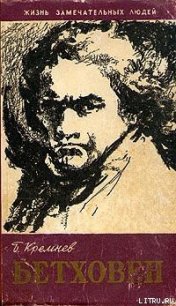Шуберт - Кремнев Борис Григорьевич (читать книги бесплатно полностью без регистрации сокращений TXT) 📗
В признании?
Но оно призрачно и эфемерно. Какой-нибудь жалкий компонист песенок, которые распевают за кружкой молодого вина, пользуется всеобщим признанием. А ему, Шуберту, после того как был исполнен его ре-минорный квартет, сказали:
– Не суйся, братец, не в свое дело. Пиши свои песни.
И сказал это не сторонний музыке человек, а первоклассный скрипач Шуппанциг. Что ж тогда спрашивать с человека улицы, который и создает широкое признание?
В деньгах?
Их у него никогда не было. Если же они и заводились, то уходили так быстро, что он не успевал ощутить радость обладания ими. Вероятно, чем больше денег у человека, тем больше их хочется иметь. Это как зуд – чем сильнее чешешь, тем нестерпимее зудит. Какая уж тут радость! Одно горе.
В чем же все-таки радость жизни?
Слава, почет, деньги – все это то, что человек получает от жизни. И сколько бы он ни получал, все ему мало. Потому он и обречен на вечное беспокойство и недовольство.
Видимо, истинная радость не в том, чтобы брать, а в том, чтобы давать.
Если у тебя есть что дать людям, ты самый счастливый человек.
Все это у него было. В избытке. И он щедро давал, зная, что вместо отданного сегодня придет завтра новое и оно будет лучше вчерашнего.
Потому он был счастлив, в том высшем проявлении счастья, какое, к сожалению, редко даруется людям.
Полное отречение от всего, что многим кажется главным, а на самом деле является мелким и несущественным, составило смысл и радость его жизни.
Обычно принято говорить о подвиге во имя искусства. При этом даже добавляют – самоотверженный подвиг. Свершал ли он его? Думается, нет. Подвиг предполагает нечто исключительное, выходящее за рамки обыденной жизни.
То, что делал он, было больше, чем подвиг. То была жизнь, обычная, повседневная, будничная. Его жизнь. Он жил так, ибо иначе жить не мог.
Оттого все его дни, казалось бы бедные радостью, на самом деле были несказанно богаты ею.
И если бы в час самых беспощадных лишений его спросили, какую бы жизнь он избрал, получив возможность начать жить сызнова, он бы ответил:
– Ту, какой живу.
IX
Это было как удар. Короткий, внезапный, резкий. В самое солнечное сплетение. От таких ударов заходится дух, плывет мир перед глазами, и ты забываешь обо всем. Даже о только что испытанной боли. Как она ни сильна.
Примерно то же почувствовал он, прочитав эти стихи. Теперь он не мог думать ни о чем, кроме них. Он понимал, что на свете немало стихов лучше, совершеннее, мудрее. Но ближе, ближе их нет.
В этом он был непоколебимо уверен. Раз и навсегда.
Все, что он подспудно ощущал каждой порой своего тела, каждым атомом души, вдруг предстало, отлитое в словах. Ясных и точных. Смутные чувства обрели форму, облеклись в мысль.
Еще не успев оправиться от удара, нанесенного первым чтением, он уже знал, твердо знал, что напишет музыку на эти стихи. Не написать ее он не мог. Стихи, рожденные другим, задолго до их появления на свет жили в нем самом. А время, каким оно представлялось поэту, таким же представлялось и ему. Горьким и страшным. Не время, а безвременье. Холодное и жестокое, как мороз, сковавший природу.
Черное небо и белая земля. Ни огонька вверху. Ни искорки внизу. Лишь белая тьма метельной круговерти, и темная точка одиноко бредущего человека. Он идет, скользя, и оступаясь, и увязая в сугробах.
Куда? Зачем? Что ждет его впереди? То же самое ледяное безмолвие. Та же самая белая смерть.
Страшный путь. Зимний путь. По земле, объятой мертвым сном.
Более сильный образ меттерниховского режима создать было трудно. Непостижимо, как поэт, никогда не бывавший в Австрии, смог все это написать. Вероятно, и ему в его Дессау жилось не слаще, чем в благословенной богом Вене. Для горя и страданий нет границ. Для подавления человека тоже.
Когда Шуберт начинал чтение стихотворного цикла «Зимний путь. Из записок странствующего валторниста», его привлекло знакомое имя Вильгельма Мюллера, автора текстов «Прекрасной мельничихи».
Когда он окончил чтение, он понял, что случай дал ему в руки дело всей жизни. Он понял, что, наконец, может и должен написать о себе и о времени, о судьбе своей и о судьбе своего поколения.
Задача огромная. Неслыханного охвата и тяжести. Она подавила его настолько, что он перестал походить на самого себя. Стал мрачным, нелюдимым. Его занимало лишь одно – стихи, безотрадные, как окружающая жизнь, и печальные, как скованная стужей природа. Они настолько завладели им, что он перестал встречаться даже с самыми близкими друзьями.
На все их тревожные расспросы Шуберт лишь поспешно и отрывисто отвечал:
– Скоро вы все услышите… И все поймете…
Такого с ним не бывало. Ни одна работа с подобной силой не завладевала им. И не доставляла стольких страданий. Он писал о страдании и страдал. Он писал о безысходной тоске и безысходно тосковал. Он писал о мучительной боли души и испытывал душевные муки.
«Зимний путь» – это хождение по мукам. И лирического героя. И автора.
Цикл, написанный кровью сердца, будоражит кровь и бередит сердца. Тонкая нить, сотканная художником, соединила незримой, но нерасторжимой связью душу одного человека с душой миллионов людей. Раскрыла их сердца потоку чувств, устремившихся из его сердца.
«Зимний путь» открывается песней «СПОКОЙНО СПИ». Напев ее прост и печален. Мелодия малоподвижна. И лишь ритм и фортепьянный аккомпанемент передают мерное, однообразное движение одиноко бредущего человека. Его безостановочный шаг.
В глухую зимнюю ночь, когда вся даль бела от снега, отправился он в дорогу. Чужой и неприкаянный, никому не нужный, всеми гонимый, никем не любимый.
с печалью и горестью сознает путник.
И, уходя, желает любимой:
«ФЛЮГЕР» – вторая песня цикла. Начальные такты вступления рисуют порыв жестокого ветра, крутящего флюгер. Он крутится в вышине, на крыше дома, а скитальцу чудится, что флюгер насмехается над ним. В безжалостном мире, где богатство – все, а человек – ничто, бессовестный флюгер, поворачивающийся туда, куда дует ветер, олицетворяет мораль.
«ЗАСТЫВШИЕ СЛЕЗЫ». Путник тяжело ступает по печальной, как напев его песни, заснеженной равнине. Из глаз струятся слезы и стынут на щеках. Они подобны инею, покрывающему деревья зимой, в рассветный час.
Но тоске, как ни жгуча она, не растопить оцепенения, охватившего природу и человека.
«ОЦЕПЕНЕНИЕ». И, как контраст оцепенелости, возникает бурное движение. Взволнованна и неудержно стремительна песня. Будто музыка вдруг стряхнула оцепенелость и освободилась от ледяных оков.
Но нет. Свобода эта мнима. Она – мираж, возникший вместе с воспоминаниями. Счастливое прошлое, смешавшись с горестным настоящим, создает настроение трагизма.
«ЛИПА». И опять в воспоминаниях оживает былое. И снова вместе с ним приходит умиротворение. И сладкий покой.
Легкий ветерок шумит листвой старой липы. Тихо, задумчиво, ласково звучит фортепьянная партия. В шелест листвы вплетается светлое журчанье ручья.
Плавно течет мелодия, приветливая, сладкозвучная.