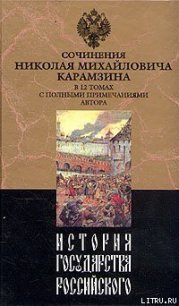Пушкин (часть 3) - Тынянов Юрий Николаевич (бесплатные онлайн книги читаем полные версии .TXT) 📗
40
Подлинно, он узнавал родину во всю ширь и мощь на больших дорогах. Да полно, не так и не там ли нужно ее узнавать? Ямщик пел.
Так вот она какова, русская песня! Нетороплива, печальна, раздумчива. Он с жадностью слушал час, другой, третий. Так вот почему эта грусть величава, широка, нетороплива. Она поется на дорогах, ямщиками. А путь далек, без конца. Дремота сменяет песню. Его жизнь начиналась стремительно, а не поспешно, что не одно и то же.
Почтовый колоколец примолк. Ямщик исчез. Он был один в условленном месте – Екатеринославе. Никого с ним не было. Расправился, потянулся.
От дорожной тряски ноги отерпли. Высылка была именно высылкой, не ссылкой: никто не ждал, не встречал, да и остановиться было негде. Он сунулся в единственное подходящее место, открытую дверь.
Оказалась харчевня. Он ее проклял – низкие потолки были теперь для него что гроб.
Купаться! В городе было наводнение. Днепр протяжно поревывал, потом стонал, наконец стихал. Харчевня была почти затоплена, вода подымалась над полом. Он не стал ничего ждать и тотчас бросился вниз, к раздутой, вздыхающей воде. Она переводила дух до нового приступа. Лодочник внизу посмотрел на него внимательно, не торопясь. Все же, услыхав, что никуда точно везти не нужно, а нужно покататься, – подал.
Внимательный взгляд лодочника, чуть прищуренный, недоверчивый, его молчаливость Пушкин заметил. Он греб медленно, истово, только в конце налегая на весла и сразу же отдавая весла на волю волны, переставая грести. Пушкин спросил, поет ли он. Тотчас лодочник неторопливо запел. Пушкин послушал. Песня была хорошая, старая. Недаром лодочник щурился. Атаман с ружьем везет девицу. И вдруг Пушкин засмеялся, коротко и хрипло. Так вот куда он выслан для исправления. Песня была разбойничья. И он долго катался по Днепру, а потом сказал лодочнику подождать и стал купаться.
Тело было как сковано долгой тряской. Только плавая, только быстро плывя, оно опять становилось его телом, а он – собою. Ноги забывали усталость. Наконец лодочник устал ждать. Он привстал. Нет, он не устал. Он встал на резкий крик, идущий по Днепру:
– Оба! В кандалах! Держи!
Только к утру привез его гребец к харчевне. Бежали, уплыли два каторжника. Он слышал крики людей, слышал погоню за двумя.
Это было уже не воображение, не игра. Это не были еще стихи, это был он сам, это были чьи-то тела, чьи-то руки, бьющие воду, чьи-то плывущие в оковах ноги. Так началась его высылка.
Вечером, все в той же харчевне, стал его бить озноб, прерывисто, по-разбойному. Он стал в бреду спасаться от погони, стал задыхаться, требуя в пустыне ледяной воды, ничего не видя, ничего не слыша, не понимая. Наконец рука его поймала кружку, холодную как лед. В кружке была ледяная вода, которую добыла перепуганная насмерть девчонка.
Так он лежал на какой-то, чьей-то власянице – откуда она взялась? – ничего не ожидая. Его руки и ноги вспоминали дорожную тряску. Вдруг, неожиданно он вспомнил все – и лодочника с быстрым наметанным глазом и крик:
– Держи!
Их было двое. Они вдвоем, вплавь, бежали из неволи, скованные друг с другом, плечо к плечу. Свобода! Только за нею можно плыть в оковах, скованным еще с кем-то другим.
Еще день. Вечером у него не горел огонь. Вот его Соловецкий монастырь – Фотий взял, чего хотел. Вот фрунт в лежку. И Аракчеев его одолел.
– Зажги лучину! – сказал вдруг суровый, приказывающий голос. – Почему здесь огня нет?
Еще никого не ожидая, ничего не помня, он понял, что свет, огонь должен быть. Он очнулся.
Перед ним стоял генерал Раевский.
Старый Раевский, сердито запретивший кому-то оставлять его в темноте и потребовавший у кого-то лучины, был старшим, родным. Он тотчас почувствовал себя защищенным и впервые вздохнул глубоко и ровно. С таким не пропадешь.
А Николай Раевский – сын его – был все тот же, не меняющий мнений и никогда их не скрывающий.
Привыкший оборонять свои стихи, как сердце – солдаты, он читал их Николаю Раевскому со всей откровенностью, а Николай при стихе слишком напряженном просто и громко хохотал. Он привык уважать гусарскую прямоту и никак не мог забыть неодобрения Николая по поводу его горячего и прямого желания говорить с императором, когда речь шла о царском счастье, о Софии Вельо.
– Забудь, – сказал тогда просто гусар. И теперь, после безумия в этой проклятой харчевне, он не знал, была ли в самом деле история с двумя разбойниками, или это бред. Новая поэма мучила его. Он и бредил ею. Два разбойника, скованные вместе, вместе бежавшие, вместе плывшие за свободой, не покинули его. Ему нужен был, как разум, ясный и громкий смех Николая Раевского. Он вполне ему доверился.
Николай Раевский сказал ему, что этому не поверят, не могут поверить:
– Нет вероятия.
Правде, тому, что было на самом деле, что было словами тюремного протокола, – вот чему нельзя было поверить. Нельзя было верить стиху, который точнее прозы.
Решено. Они ехали на Кавказ и в Крым.