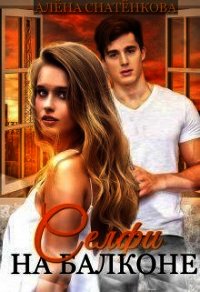Быть - Смоктуновский Иннокентий Михайлович (читаем книги онлайн .TXT) 📗
Как бы ни были светлы и беспечны минуты, подаренные нам нашими внимательными друзьями, с каждым часом пути мы все более и более затихали, погружаясь каждый в свои думы, вызванные, должно быть, нашим дерзким рейдом в давно ушедшее время.
В городском комитете Быдгоща по мере нашего продвижения по его холлам и коридорам по всему зданию все более разрастался необычно громкий голос человека, желавшего непременно, чтоб его услышали где-то далеко. Судя по тому, как возрастала громкость, все происходило в кабинете, куда мы шли и где нас ждали. Подумалось: «Какие, однако, в Польше крепкие двери делают — не только не разлетаются, а висят себе и хоть бы хны, и никакие звуковые перегрузки им не страшны». Уже подходя к «эпицентру», Ян перевел:
— Из Варшавы беспокоятся: доехали ли мы, а здешнее начальство, как видите, неистовствует и тоже взволновано, недоумевает — куда мы запропастились и выехали ли вообще?
— Ян, а почему бы вам не посоветовать ему воспользоваться телефоном, в данном случае это много надежнее — огромное расстояние все-таки, триста километров, так что могут что-нибудь там и не расслышать.
Пани Ванде вдруг захотелось освежить руки. Ян хохотал.
— А-а, вот вы где, голубчики, наконец-то! — без всяких перестроев перешел хозяин на русский. Он жал нам руки и продолжал терроризировать (телефон?) расстояние и наши барабанные перепонки. — Нет проблем, все сделаем!
Затем дела пошли просто приятные и приятные во всех отношениях: мне вручили прекрасно сработанный ларец (это подобие наших старинных, больших сундуков, только маленький), огромное такой же красоты блюдо и немногим меньше в диаметре этого фарфорово-фаянсового чуда увесистую бронзовую медаль, которая меня возводила (если я чего-нибудь не перепутал, как часто со мною бывает; переспрашивать же в столь торжественный момент было бы, как мне показалось, верхом неучтивости) в ранг почетного гражданина города Быдгоща.
Ничего и приблизительного не предполагалось. Я просто, без затей хотел посетить места, некогда бывшие полем боя, теперь воочию мирно всмотреться в них, в долину, откуда расстреливали нас, притронуться к жженой бурости амбаров, наших защитников, — они помогли выстоять, заслонив нас толщью своих стен; увидеть его и сказать в душе дереву-великану: «Ты видел их всех здесь, на снегу, видел — они никому не хотели зла, мы так же стояли тут, как и ты. Расти и здравствуй!» И, может быть, закрыв глаза, постоять минуту-другую, постараться воскресить в воображении — вырвать из небытия и толщи времени всех тех, кого сумела бы вызвать моя память сейчас.
Но когда все стало вдруг приобретать совсем другой характер и в ход пошли «трубы и литавры», то улегшееся было беспокойство (та ли эта Домбровка?), возвратясь с новой силой, не давало быть самим собой и соответствовать теплу вокруг. Под видом шутки я поведал нашему хозяину о своем сомнении, не без удивления отметив, что он говорил теперь не только нормально, но даже тихо. Сорок лет трудясь над изучением человека, его характера, предполагаемых реакций и рефлексов, я знал наверное, что радость и бравурность его сейчас позавянут. Тепло, радостно и громко он сказал:
— Дорогой наш гость и герой! Я видел ваше неповторимое выступление по телевидению. Вы сражались на территории Быдгощкого и Торуньского воеводств — вы наш освободитель! Все остальное не имеет никакого значения. Мы любим, благодарим и пьем за ваше здоровье! — Он обнял меня и троекратно, по-русски поцеловал.
Сомнения ушли — я почувствовал себя героем, и этот душевный праздник был бы полным, не споткнись я об остро направленные взгляды трех или четырех человек, которые также сидели с нами за тем прекрасным столом. О-о-о, я узнал их сразу, хоть мы и не встречались никогда раньше — это были представители местной прессы!
Посетив кладбище Советских воинов в Быдгоще, мы вместе с двумя работниками воеводства, по культуре и идеологии, любезно согласившимися сопровождать нас, двинулись к конечной цели нашего поиска.
До Домбровки двадцать пять километров. Пожалуй, это самый странный отрезок нашего путешествия: болтаем, шутим, даже над чем-то хохочем, но что шумим и над чем уж так развеселились безудержно — теперь сказать не могу. Возбужден. Спросили о чем-то — ответил, но не совсем «впопад» должно быть, потому как вдруг вижу неловко вывернутую и протянутую мне руку пани Ванды?! Даже не сразу сообразил о своевременности этого душевного дара. Ухватился, держу. Пани Ванда ни разу не обернулась. Успокоившись, смотрю в убегающий за спину пейзаж, надеясь вспомнить, узнать. Напрасный труд — не видел, не ходил я этими дорогами... ничто не задерживает глаз узнаванием; напротив — что-то вроде неловкости, что мы едем не в ту сторону, не покидало меня. Не исключив, что внутреннее чувство ориентации, прочно обосновавшееся с той давней поры двух лет жизни на фронте, когда изо дня в день что бы ни делал, где бы ни находился — во сне, наяву, можешь, не можешь, — но должен идти на запад, на запад, и только на запад, и опять, и снова неуклонно и постоянно на запад, — смутно и слабо дремавшее доселе, сейчас отказывалось принимать окружающее и мое положение в нем. Право, до смешного, — если бы развернувшись на сто восемьдесят градусов я оказался бы по отношению движения машины спиной вперед, вот тогда наверное чувствовал бы себя поставленным в верное соотношение с пространством. Справа — север, впереди — запад, значит все нормально и правильно — вперед!
Машина с ходу переехала железнодорожный переезд, дорога щедро и широко уходила вправо, открыв с левой стороны небольшую пологую горушку с просторно расставленными на ней низкими амбарами...
Потом, позже ехавший с нами представитель культуры воеводства говорил: «Ну, дорогой мой, нельзя так. Вы вдруг стали страшным каким-то и серым... мы спрашивали — может, случилось что, но вы не услышали нас и какими-то нехорошими глазами куда-то устремились». Впереди промелькнул шпиль костела, и машина была уже в центре деревни у низенького, похожего на декорацию в кино здания. Как же так — костел должен быть справа?! Полное недоумение! Так бывает порою, когда, изрядно проплутав, въезжаешь в какую-то улицу и не можешь определить: где же это ты находишься и что это за район города? До момента, когда вдруг узнаешь и место, и улицу, и оказывается, ты прекрасно знаешь эту самую улицу и вообще сейчас ты уже в двух шагах от цели, но въезжал в нее раньше обычно с противоположной стороны. Только-то и всего. Нечто подобное испытывал я тогда.
Однако предаваться всяким там размышлениям мне просто-напросто не позволили. От группы людей, стоящих у «карточного домика», отделились и пошли к нам навстречу две девушки. Подойдя, одна из них некоторое время молча ясно смотрела на меня, потом сказала:
— Здравствуйте, Иннокентий Михайлович, как хорошо, что вы приехали. Мы счастливы видеть и принимать у себя защитника и освободителя нашей Домбровки. Спасибо, хотелось, чтобы вы были счастливы и здоровы. Эти цветы вам.
Здесь они уже как-то вместе, обе и цветы вручили, и поцеловали меня. Я думаю, так происходило оттого, чтобы не выявилось уж очень резкого распределения обязанностей: одна говорит и цветы подносит, другая подбегает и быстро целует.
Все получилось замечательно, и, конечно, я был рад предельно и смущен, однако не настолько, чтобы не отметить, что, приветствуя меня, два этих прекрасных существа тоже испытывали искреннюю радость, хотя, казалось бы, что я им вместе с Гекубой и каким-то там шекспировским шутом, бедным Йориком? Одно для меня стало совершенно ясно: если бы в ту далекую ночь в феврале 1944 года кому-нибудь взбрендило вдруг уверять меня, что через сорок лет на этом самом месте меня будут целовать, обнимать и дарить цветы молодые, столь прекрасные существа — я бы немедленно, то есть не теряя ни одной секунды, сошел с ума. Отсюда вывод: как хорошо, что подобное редко кому может прийти в голову. Ну, правда, если говорить уж совершенно откровенно и серьезно — я тогда без всяких цветов, поцелуев и радужных уверений сам был очень близок к такому шагу. Ну да что... Всякое бывает и именно поэтому да здравствует здоровый дух и, конечно, здоровое тело. Никаких рефлексий и аномалий — и всё тут.