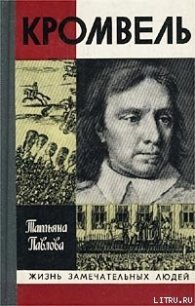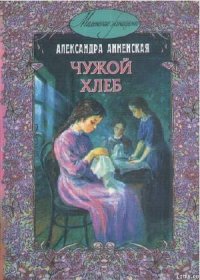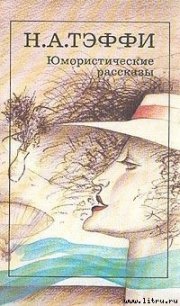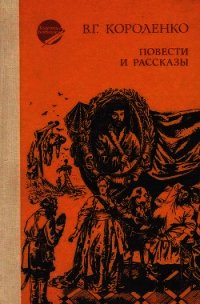Повесть моей жизни. Воспоминания. 1880 - 1909 - Богданович Татьяна Александровна (мир бесплатных книг .txt, .fb2) 📗
Короленко, незадолго до того переехавший в Полтаву, с волнением рассказывал нам о крестьянских бунтах.
В это самое время в Петербурге разыгралась позорная история с выбором Горького в Академию. Когда выборы состоялись, результат их был представлен на «высочайшее благовоззрение» и вызвал царскую резолюцию, что-то вроде «оригинально!»
По уставу выборы академиков не требовали никаких утверждений. Тем не менее, высочайшее неодобрение произвело среди академиков крайнее смущение. Обеспокоился и президент Академии, вел. Князь Константин Константинович и не нашел ничего более достойного, чем предложить Академии кассировать выборы.
Короленко, тоже незадолго до того избранный в Академию, не только возмутился, но даже оскорбился, так как в качестве академика должен был в какой-то мере нести ответственность за позорный акт президента.
Он послал заявление в Академию, слагая с себя звание почетного академика. Чехов, узнав о поступке Короленко и разделяя вполне его чувства, решил приехать в Полтаву, чтобы поговорить об этом деле с Короленко. Но Короленко, зная о болезни Чехова, сам поехал к нему в Ялту. После разговора с Владимиром Галактионовичем Чехов тоже послал отказ от звания почетного академика. Таким образом, Академия, отвергнув Горького, лишилась одновременно и Чехова, и Короленко.
Но мне поездка Короленко в Ялту запомнилась не только этим.
В Крыму в Гаспре жил тогда, поправляясь после тяжелого воспаления легких, Л. Н. Толстой.
Узнав о приезде Короленко, он передал ему просьбу повидаться.
Вернувшись в Петербург, Владимир Галактионович с некоторым изумлением рассказывал нам о своем впечатлении от посещения Толстого.
Лев Николаевич был при встрече настолько еще болен, что все время лежал с закрытыми глазами. Но он настойчиво просил Владимира Галактионовича подробно рассказать ему, что происходит сейчас на Украине.
Короленко не счел себя вправе что-нибудь смягчать и затушевывать в разговоре с Толстым и рассказывал ему во всех подробностях о грабежах, поджогах и убийствах, производимых крестьянами, доведенными до последней степени ярости возмутительными преследованиями помещиков и земских начальников. Сами крестьяне называли эти свои набеги на помещичьи усадьбы по-украински «грабижками».
Лев Николаевич слушал молча, с закрытыми глазами, и Владимир Галактионович невольно вспоминал проповедь его о непротивлении злу насилием.
И вдруг, когда Короленко замолчал, окончив свой рассказ, Тол стой повернулся к нему и, сверкнув на него своими пронзительными, широко раскрытыми глазами, громко и отчетливо произнес:
— Молодцы!
Короленко говорил, что никогда еще Толстой не производил на него такого потрясающего впечатления, как в этот момент, когда глубоко взволнованный страшной жизненной трагедией, он забыл свои теории и откликнулся на нее со всей силой своей могучей натуры.
Толстой в этот период, видимо, переживал какой-то кризис. Он совершенно неожиданно реагировал не только на рассказ Короленко о крестьянских «грабижках», но и на рассказ о террористическом покушении.
Он опять-таки внимательно, с закрытыми глазами слушал спокойный рассказ Короленко. И снова, когда Короленко окончил, он сверкнул на него глазами и закричал:
— И ц-е-л-е-с-о-р-а-з-н-о!
Только Толстой со своим безграничным мужеством и бестрепетной искренностью мог так сказать, зная, что его взгляды и теории известны каждому и уж, конечно, хорошо знакомы Короленко.
Мне тоже в этот период посчастливилось несколько раз видеть Толстого и даже довольно близко.
Мы с Ангелом Ивановичем жили в это лето на даче Александры Аркадьевны Давыдовой в Мисхоре. Мисхор расположен на берегу моря между Гаспрой и Алупкой. Толстой, к этому времени уже выздоровевший, каждый день ездил верхом из Гаспры в Алупку на почту.
Было большой радостью, завидев его издали, выйти на дорогу и поклониться ему.
Горький в своей характеристике Толстого, лучшей, на мой взгляд, из всего написанного о Толстом, несколько раз упоминает о маленьком росте Толстого. «Маленький, седенький и все-таки — Бог».
Мне не пришлось видеть Толстого ни стоящим, ни даже сидящим. Я видела его только верхом на лошади. И на лошади, вероятно, вследствие уменья прекрасно держаться в седле, он производил впечатление скорей высокого человека. Впрочем, раз я могла видеть Толстого и сидящим в коляске. Не помню, почему нам стало известно, что Толстые всей семьей собираются в коляске в Алупку.
Мы решили поднести Софье Андреевне букет роз, удивительно красивых в Мисхоре.
Увидев группу людей, стоящих на краю дороги с большим букетом цветов, кучеру велели остановиться. Букет мы передали Софье Андреевне, и она любезно поблагодарила нас, но я до такой степени волновалась, что не могла заставить поднять глаза на самого Толстого и уж, конечно не смогла бы судить о его росте.
Очень приятно было видеть, как все рабочие каменщики, чинившие шоссе, при проезде Толстого, вставали и низко кланялись ему.
Когда мои дети подросли, моей мечтой было поехать с ними в Засеку и там, укрыв их где-нибудь в кустах, недалеко от Ясной Поляны, подождать прохода Толстого. У меня и мысли не было подводить детей к нему. Мне просто хотелось, чтоб в глазах у них запечатлелся образ величайшего писателя мира.
Но этой мечте не суждено было сбыться. Толстой умер прежде, чем это можно было осуществить. И я благодарна судьбе, что хоть сама сохранила в памяти его образ.
Дела редакции требовали возвращения Ангела Ивановича в Петербург, но меня тетя уговорила остаться еще месяца на полтора в Крыму, так как у меня обнаружился упорный плеврит.
На смену Ангелу Ивановичу приехал дядя, и мы с ним, переехав в Ялту, пробыли там до конца октября.
Тетя по моей просьбе присылала мне каждый день открытки о здоровье детей. Пред отъездом я попросила ее телеграфировать в Севастополь, чтобы я не беспокоилась в дороге. В Севастополе я получила телеграмму, что все здоровы и успокоилась.
Приехала я в Петербург в очень холодный день, и Ангел Иванович встретил меня с шубой и ботами. Одеваясь, я спросила, все ли благополучно дома.
— Только ты, пожалуйста, не пугайся… — начал он.
— Что такое? — вскрикнула я, чувствуя, что вся холодею от ужаса. — Говори скорей!
— Шура не совсем здорова…
— Значит, вы обманули меня.
— Нет, она заболела, как только мы послали телеграмму.
Дома я нашла Шуру в сильном жару, и у нее начался тяжелый бронхит со всякими осложнениями. Кончился он, правда, благополучно, но я не могла простить себе, что так надолго осталась в Крыму, хотя тетя, конечно, не хуже меня заботилась о детях.
В этом году Александре Аркадьевне удалось побывать в Мисхоре только поздней осенью, и то ненадолго, когда нас там уже не было.
Эта осень была очень бурной для «Мира Божьего». Ангел Иванович всячески старался привлекать к журналу сотрудников, которых считал для него полезными. Одним из таких сотрудников был приват-доцент по русской истории П. Н. Милюков.
И Александра Аркадьевна, и Ангел Иванович были очень довольны своим новым сотрудником. Но Ангелу Ивановичу казалось недостаточным простое его сотрудничество. Милюков становился все более популярным, и Ангел Иванович стал убеждать Александру Аркадьевну, что его имя, поставленное во главе журнала, в качестве редактора, чрезвычайно повысит авторитет журнала. Александра Аркадьевна довольно долго колебалась, но, в конце концов, согласилась, с тем условием, чтоб это ни в какой мере не повлияло на роль в журнале Ангела Ивановича. Пусть имя Милюкова стоит на обложке, как имя официального редактора, если его утвердят — фактически он будет только членом редакционной коллегии, а решающий голос по-прежнему останется за Ангелом Ивановичем. На том и порешили, и Ангел Иванович был чрезвычайно доволен.
Первый месяц все шло прекрасно, и Александра Аркадьевна решила поехать отдохнуть в Мисхор.
Вскоре после ее отъезда начались первые недоразумения.
Милюков, прежде всего, был профессор, и сотрудничество профессоров он считал наиболее ценным для журнала. Ангел Иванович держался несколько иного мнения. Профессора люди почтенные и знающие, но если они станут главными сотрудниками журнала, они могут совершенно засушить его.