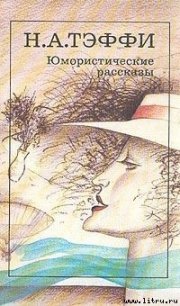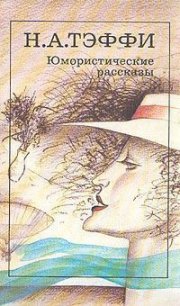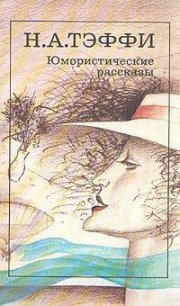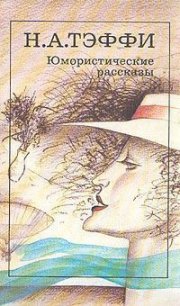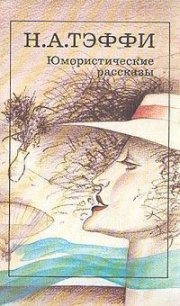Кусочек жизни. Рассказы, мемуары - Лохвицкая Надежда Александровна "Тэффи" (читаем книги .txt, .fb2) 📗
Наняли дачку, в 12 километрах от Парижа. Сообщение неудобное — так спокойнее: если кто пронюхает — не зачастит.
Огородик, курочки, чистенько, уютно. И воздух дивный. Есть какая-то фабрика, но не так уж близко. Не коптит. Лесок недалеко. Наверное, грибы будут. Ежевика в овраге. Благодать.
Кое-какие деньжонки Лариса Петровна оставила в Париже, в банке. Авдотья Ивановна банкам не доверяла и замотала свои деньги в клубок шерсти — никто не додумается, и зарок дала — клубка не разматывать.
Зажили.
Комнатка Авдотьи Ивановны выходила в переулочек. Ларисы Петровны — в садик.
Только раз сидит Авдотья Ивановна у своего окошечка — хозяйка в лавку пошла. Сидит и видит: идут двое — дама и господин. Одеты простовато, оба в непромокайках. Идут и так симпатично на Авдотью Ивановну поглядывают. Поравнялись с окном — батюшки светы! — по-русски говорят.
Тут Авдотья Ивановна совсем из окна высунулась, а господин сказал:
— Виноват, пардон. Мне говорили, что здесь русские живут.
Поговорили минуты две и ушли.
Узнав об этой встрече, Лариса Петровна удовольствия не выразила.
— И к чему было признаваться? Ответила бы как-нибудь «нон, нон», они бы и сочли тебя за француженку. Бог их знает, что за люди. Не вышло бы опять вроде прежнего.
На следующий день новая знакомка проходила мимо одна, увидела Авдотью Ивановну, остановилась. Поболтали. Очень симпатичная. Муж служит на заводе, но жить трудно. Пока были деньги, все в долг давали, а теперь никто не возвращает и самим приходится в долги залезать. Беда!
Через два дня прибежала, запыхавшись:
— Дайте, ради бога, двадцать франков. Вы такая милая, родная душа. Только на три дня. В пятницу у нас получка, нам ведь только дотянуть.
Авдотья Ивановна полезла в кошелек, набрала 19 франков. Отдала. Симпатичная дама схватила деньги и убежала.
Вернулась с базара Лариса Петровна не одна. С ней пришла молодая дама, с которой встречались у общих знакомых. Дама очень деловая, так и трещит. Подзакусила, пожурила, зачем жарят телятину, куском — дорого стоит. Надо уметь во всем рассчитывать. Рассказала, что здесь в 2 километрах устраивается на реке маленький пляжик и она надумала открыть около этого пляжика кафе. Золотое дело. Теперь как раз ведет переговоры с хозяином бистро, у которого намерена нанять помещение и переделать.
Страшно энергичная была дама. Куда энергичнее той парижской. Размах, планы, идеи. Эта далеко пойдет.
И повадилась эта милая дама к ним заглядывать. И не то чтобы непременно к завтраку или к обеду. Просто приходила, когда придется. Ну ей подогревали что-нибудь, и то она всегда стеснялась, и протестовала, и журила, что неэкономно живут.
Подолгу иногда засиживалась и все что-то турчала Ларисе Петровне вполголоса. А когда Авдотья Ивановна входила — сейчас же начинала говорить громко и, по-видимому, не о том.
— Верно, сплетни какие-нибудь, — решила Авдотья Ивановна и все ждала, что хозяйка не утерпит и все ей расскажет.
Но хозяйка ничего не говорила. Озабоченная какая-то стала и рассеянная.
Авдотья Ивановна, впрочем, особенно над этим не задумывалась. У нее было над чем подумать.
Симпатичная дама, занявшая у нее 19 франков, прибежала к ней, как и обещала, в пятницу и отдала ей свой долг. Эдакая милочка! Авдотья Ивановна даже укоряла себя, что немножко сомневалась. Но часа через два, на обратном пути, симпатичная дама снова подошла к окошку и даже постучала по стеклу пальцами.
— Понимаете, какая вышла история, — сказала она. — Мне до зарезу нужно сегодня вечером сорок франков. Девятнадцать я вам отдала, так вот прибавьте к ним только двадцать один. Вечером муж придет с работы, и завтра утром я вам все верну. Можете мне верить.
Авдотья Ивановна вздохнула и пошла на кухню разматывать клубок.
Через три дня симпатичная дама проходила мимо, но к окну не подошла, а только покивала.
А через неделю подошла и попросила 60 франков, «для ровного счета». Сразу все и отдаст 5-го числа.
Авдотья Ивановна, хотя и не видела никакого неудобства в том, что счет неровный, однако как-то растерялась и пошла опять разматывать свой клубок. Но пока разматывала, ожесточилась сердцем и отделила только 30 франков.
— Простите, больше нету, да и то очень трудно.
Симпатичная дама очень обиделась.
— Вы точно мне не верите, — сказала она. — И как же так — даете тридцать, когда я просила шестьдесят? Это же меня не устраивает.
Она выговаривала очень строго и ушла недовольная.
Авдотья Ивановна чувствовала себя жмотом, жилой, настоящей «француженкой».
Приехала из города Лариса Петровна. Приехала с деловой дамой, с которой вместе ездили.
Лариса Петровна была какая-то смущенная и как будто растерянная. А гостья, наоборот, оживленнее обыкновенного и все кидалась целовать Ларису Петровну и уходя кричала:
— Благодарю, благодарю. Не забуду никогда в жизни.
Все это показалось Авдотье Ивановне очень подозрительным.
Между прочим, Лариса Петровна зашла в кухню и увидела, как ее слуга спешно заматывает свой клубок.
— Ты это что же? — сказала она, нахмурив брови. — Ты же давала зарок. Это, верно, твои новые знакомцы уж успели тебя околпачить?
— Тот человек еще не родился, который меня околпачит, — вспыхнув, закричала Авдотья Ивановна. — Они у меня сегодня клянчили шестьдесят, да не на таковскую напали. Дала тридцать. А не хочешь — так и не надо. А вот скажите лучше, сколько с вас эта проныра вытянула, что вы с ней вместе не иначе, как в банк слетали, а теперь она вас благодарит не наблагодарится.
Теперь вспыхнула Лариса Петровна.
— Ну, милая моя, мало ты меня знаешь! Меня обойти не так-то легко. Дело прошлое: хотела она с меня три тысячи получить. А получила — знаешь сколько? Две с половиной. С тем и отъехала. А ты еще говоришь! Вот как! Пятьсот франков уберегла. Пятьсот! А ты только тридцать. А еще зарок давала. Нет, матушка, никогда из тебя, из вороны, француженки не будет. Так и знай.
Об одном диване
Стоял в салончике диван.
Самый обыкновенный. Обитый каким-то рябеньким гобеленчиком, потертым и выгорелым.
Никто на диван внимания не обращал. Он слился с остальной обстановкой в одно общее — тусклое и незаметное.
И вот однажды Лида Блек, владелица этого дивана, сказала своему мужу:
— Знаешь, Володя, следовало бы этот диван перебить. Он сам по себе очень недурен и удобен. Такой диван должен украшать комнату, а он ее только портит. Как ты думаешь — надо перебить?
Муж отвечал лениво:
— К чему?
— Как — к чему? Я же тебе объясняю, что такой диван должен украшать комнату, а он ее портит.
— А зачем тебе украшать комнату?
Лида посмотрела на него внимательно и ответила:
— Затем, что ты свинья.
Ответ этот каждому постороннему человеку показался бы бессмысленным. Просто, мол, выбранилась дамочка, очевидно в силу дурного характера и грубости своего нрава.
Но, в сущности, ответ ее был глубоко осмыслен. Ответила она не только на вопрос, который, конечно, таил в себе раздражающее начало. Ответила она также и на его неестественно-равнодушный тон, на его ленивую позу, на его (и это в значительной степени) нелепо закинутую ногу, которую он вызывающе раскачивал, на его презрение, на его насмешку — на все вместе.
Он это так и понял. Подумал, опустил ногу, сел прямо и сказал просто и даже грустно:
— Зачем придумывать себе хлопоты? Все горе человека происходит от того, что он все время заботится о том, как бы все для себя сделать получше. Сидит около стола, ну, кажется, и сидел бы. Нет. Вскочит, пересядет к окну. Если спросить его, зачем пересел, так, пожалуй, и сам не знает. А там глубоко у него, в подсознательном, идет работа. Работа на улучшение его существования. Там, в подсознательном, показалось, почувствовалось, что, пожалуй, у окна будет лучше. И вот дан приказ, и несчастный болван пересаживается. Все время с утра до вечера занят человек одной заботой — как бы улучшить свое существование. Для этого он ест, ходит на службу, женится, переклеивает обои, шьет себе брюки в полоску, закатывает сцены ревности, рассказывает анекдоты, делается министром, даже стреляется.