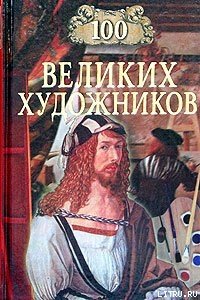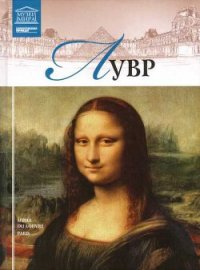Портреты словами - Ходасевич Валентина Михайловна (книги хорошего качества .txt) 📗
Во втором этаже очень большой, широкий, открытый балкон комнаты Алексея Максимовича. Выйдешь – захлебнешься воздухом, глаза – светом. И привыкнуть нельзя – всегда перехватит дыхание и, хоть слегка, закружится голова.
Балкон служит ложей в театре, носящем название «Неаполитанский залив». Спектакли в нем идут круглосуточно. Утром и днем из этой ложи можно рассматривать сквозь голубую дымку лирическую декорацию – панораму всего залива, и, если Везувий действует и даже выдыхает огонь и дым, не страшно, так как это далеко, на противоположном берегу, а выглядит как с детства знакомая открытка.
Тишина… Алексей Максимович, прервав работу, выходит из накуренной комнаты подышать, передохнуть, постоит неподвижно и вскоре скрывается обратно. Это можно видеть из сада и с некоторых точек зигзагообразных поворотов дороги, ведущей из Сорренто. Он стоит выпрямившись, худой, еще моложавый, но кажется маленьким-маленьким в огромном пространстве голубого пейзажа. Однако все его знают и, проезжая или проходя, всматриваются: а вдруг повезет и увидят Горького? Конечно, владельцы многочисленных роскошных гостиниц Сорренто делают на этом дела – повышают плату за «вид на Горького».
Вечереет. Алексей Максимович кончил работать и приглашает живущих с ним и гостей на балкон – смотреть спектакли, которые устраивают природа и народ, живущий в Неаполе, в маленьких городках и рыбацких поселках, расположенных на грандиозном полукружии природного амфитеатра, спускающегося от подножия Везувия до кромки залива.
Балкон заполняется. Каждый тащит на чем сидеть. Алексей Максимович – хозяин внимательный – выносит пепельницы и «дальнобойный» морской бинокль, рекомендуя его на случай надобности.
Мы смотрим спектакль долго – сколько у кого хватит сил, любознательности и воображения. Бывало, и до рассвета. При мне дольше всех засиживались: Алексей Максимович, Максим, художник И. Н. Ракицкий и я. Для подкрепления убывавших сил и полного наслаждения появлялись в руках бокалы с местным вином. Мы чокаемся и пьем друг за друга из Signor'a Vesuvio, а если он энергично действует, прибавляем: «Браво! Брависсимо!» – а я вспоминаю раскопки Помпеи: там тоже до поры до времени любовались…
Начинает темнеть… Поворотом головы направо можно переменить декорацию, – меняем, вдали, за Сорренто, из-за горы, имеющей форму огромной лежащей египетской мумии, появляется полная луна. И вот теперь обязательно нужно смотреть в бинокль, чтобы увидеть, как фантастически быстро луна катится по контуру мумии, а крошечные (из-за расстояния) пинии резко видны черными силуэтиками на фоне постепенно раскаляющегося шара, который, поднимаясь все выше, отрывается от горы… И только теперь смущенно вспоминаешь, что это не луна катится так быстро, а мы – Земля – вращаемся…
Вдруг я замечаю все увеличивающееся количество ползущих по горе «светляков». Это фонари крестьян. «Охотятся на перепелок», – говорит Алексей Максимович. Птицы обожрались на тучных нивах пшеницей – не в силах лететь, падают и спят. Люди тихо сворачивают им головки, собирают и продают на рынках. Жареные перепелки очень вкусны.
Когда окончательно темнеет, начинаются фейерверки… Редко кто так сосредоточенно любит фейерверки, как Алексей Максимович, да и я ненамного от него в этом отстаю, а что и говорить про итальянцев – у них даже фейерверочные состязания происходят между городками и рыбачьими коммунами! Круглый год, но особенно летом по всяческим поводам взлетают в небо разнообразнейшие фейерверки, рассыпаясь многоцветными огнями, и, когда безветрие, – множатся, отражаясь в воде. Треск и взрывы волнами перекатываются по всему заливу, перебивая музыку и пение.
В дни больших праздников – в честь ли святых, или урожая, или удачного улова (а он зависит от святого Петра, покровителя рыбаков) – фейерверк длится много часов.
Эскизы для «Псиши» готовы – послала в Милан. Благодарят и сообщают, что деньги вышлют в ближайшее время.
Я «кормлена, поена, дети не плачут», кое-какие деньги на отъезд домой отложены, и я не беспокоюсь. Но вот получаю новое предложение – приехать в Триест оформлять балет. Изложено соблазнительно: были бы рады, если бы я согласилась быть у них постоянным художником. Ну, это уж нет!… Чувствую, что хочу домой. Меня уговаривают не спешить, а Алексей Максимович советует «по дороге» домой побывать в Триесте, оформить балет, поглядеть город и знаменитые пещеры.
Все решает неожиданное письмо из Ленинграда от Радлова – предлагает интересную постановку в Театре оперы и балета. Если согласна, надо выезжать как можно скорее. Телеграфирую согласие. Телеграфирую в Триест – отказываюсь. Телеграфирую в театр Павловой, чтобы высылали деньги.
Назначаю день отъезда, радуюсь, и одновременно мне очень, очень трудно расставаться с дивной жизнью у Алексея Максимовича, с ним всегда мудро интересно, с домом, где – я знаю наверное – меня все любят. Но ведь есть у меня Родина, интересная работа, муж, дом…
Возвращение
В Ленинграде меня ждала неприятность – спектакль, ради которого я мчалась без остановок в Ленинград, не будут ставить. Но не было времени огорчаться – одно предложение работы наскакивало на другое. Творчески интересен был спектакль «Ливень» Сомерсета Моэма. Режиссер В. Р. Раппопорт. Театр Акдрама. Действие в тропиках. Декорация для трех актов одна. В последнем акте все время идет тропический дождь. Декорацию решила условно, живописью, а дождь лился настоящий (по первому и последнему плану воспользовалась трубами противопожарной установки). Так верилось в дождь, что зрители говорили: как же идти домой без галош? Да и я сама тоже думала: придется промокнуть. Но смешение живописи со столь убедительным натурализмом было весьма неплохо, правда, и пьеса была хороша, и актеры играли прекрасно.
«Милая моя Купчиха, – очень обрадовался Вашим письмом, а особенно – бодрым тоном его. И тем, что у Вас много работ, а значит будут деньги и это обеспечивает Ваш приезд в Италию. Не плохо!
У нас – тоже не плохо. Все здоровы, кроме нижеподписавшегося, который, по причине раздерганных и раздергиваемых нервов, кажется – сходит с ума. Не совсем еще сходит, но вполне готов для отъезда в санаторию нервнобольных, что, видимо, и придется ему сделать.
17-го сентября полиция Сорренто произвела у меня обыск, а затем густо обставила шпионами. Марию Игнат [ьевну] обыскали на границе, по пути в Берлин на операцию сына ее Павла. Отобрали у нее мои письма. На все сие я пожаловался главному лицу страны, но до сего дня ответа не имею. Очень зол. Так-то вот. Глупо. Вроде бы знают, что я не коммунист и политикой не занимаюсь, а скромно пишу длинные романы.
Внучка моя растет не по дням, а по часам. У нее синие глаза. Не капризна. Нужно видеть Максима, когда она у него на руках. Это столь же трогательно, как и уморительно.
Был, наконец, Добровейн. Играть он стал лучше, но очень зазнался, относится к людям свысока и, видимо, очень избалован женщинами. Общая участь талантов. А он – весьма талантлив.
Все разъехались, кроме Рамши, наивнейшего человека. Соловей лежит. Я хожу по комнате из угла в угол. Это очень утомительно. Тимоша становится все более заботливой матерью. Что еще сказать? Нечего.
Прилагаю две открытки, полученные на Ваше имя. Да, – был однорукий и хромой Зиновий Пешков [57], очень интересно рассказывал, как дерутся в Марокко. Хорошо дерутся. Я посоветовал ему все-таки отказаться от этого дела и жениться на богатой американке. Вот и все.
Целую Вашу лапу, друг мой. «Милому и бритому» Диди – сердечный привет. Агавы, посаженные им, растут.
Превосходная погода. Цветут осенние розы, анемоны и акация. Собирают виноград. Мы его едим пудами.
Очень жаль, что Вас нет, я так привык видеть Вас! Передайте мой поклон милой Липе, скажите, что очень люблю ее.
Будьте здоровы, дорогая. Пишите.
8. X. 1925 года
А. Пешков».
57
Приемный сын М. Горького.